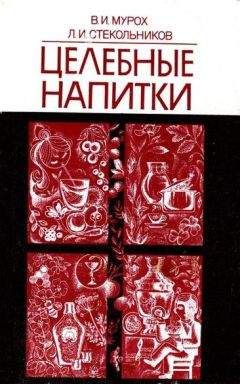Валерий Пискунов - Преодолей пустоту
В самой комнатке - ни одной фотографии; книжная полка, телевизор, любимое кресло напротив высокого аквариума, горит уютный зеленый свет и булькает компрессор. Рыбки пасутся в сонноц зелени и кажутся существами иного мира, иных измерений, иной красоты.
Женщины в доме нет. Чай Курок готовит сам, заваривая в стеклянном чайничке. Расставит граненые стаканы, плюхнется в кресло и осклабится.
Курок любит пофилософствовать на популярные темы. Я не могу серьезно слушать его. Но слушаю почему-то.
- Был я неделю назад в картинной галерее... Смотрел полотна Рембрандта. - Поднимет стакан, смотрит, как ломается ложка в янтарной жидкости. - Потрясающий мастер... Как он искал свет! - Поставит стакан, задерет голову. - Если бы ему фотоаппарат!..
Не удержусь:
- И Рембрандта не стало бы.
Осклабится, поднимется, подойдет к аквариуму, постучит пальцем по стеклу. Рыбешки - разноцветные, длинные, тонкие, треугольные - кинутся к стенке, сгрудятся, выстроятся - ну словно капелла.
Повернется и скажет:
- Красота не имеет права жить.-И, отвечая на мой вопросительный взгляд, добавит: - Потому что жить может и уродство.
Я, сбитый с толку парадоксом, не сразу соображаю, что не обо мне речь.
"Ты живешь, и я живу", - думается мне, и жалко горбуна, но не мягкой, а раздражающей жалостью.
Курок пошарит в папке, достанет снимок - роза. И зависть, и очарование. Сразу вспоминаешь, где видел эту розу, ведь сейчас конец сентября и в естественном цветении их мало осталось. И это - осенняя роза. Я наблюдал, и знаю их: на восковых лепестках истонченные прожилки, запах точно нимб, стебелек с желтизной, края листиков горят дробной радужкой, кончики фиолетoвых шипиков, растворяющиеся в изморозном воздухе.
Эта роза росла, доживала в одной из аллей парка, в тени высоченного старого каштана.
Я видел это местр, на которое уже пали два-три временем сорванных оранжевых листа. Видел!
-Неужели непонятно, что в естестве нет тех законов красоты, которые мы якобы в нем открываем?
Посмотришь на него со смешанным чувством изумления и зависти. Усмехнется:
- Я две недели выслеживал ее и наконец... убил. Убил, чтобы дать ей новую, только красивому свойственную жизнь.
- Ну, положим...
Смешается:
- Да-да, конечно, но... Ты что-нибудь слышал о двумерцах?
- Что-нибудь...
- Меня всегда... смущала их какая-то скромная однобокость. Скользят, движутся боком, словно хотят быть незаметными, тушуются. Почему?..
Он cпрашивает это, как ни странно, очень серьезно. Смешно, и отвечать нет охоты.
Мы наливаем еще по стакану из прозрачного чайничка. Смотрю на изумрудную зелень в аквариуме, на взлетающие серпики пузырьков.
- ...И мне стало понятно, зачем Рембрандт так страстно искал волшебный луч. Мне стала ясна загадка "Данаи": она попала в божественное освещение... Что же это, как не Двухмерная законченность? Что это, как не абсолютно описанная форма?
Что обычно удерживает от насмешек и шуток над Курком? Может быть, его горбик? Слушаешь и невольно смотришь, как ерзает Курок, пристраивая спину в удобном кожаном кресле.
- Люди ничего не потеряли бы, если бы мир вдруг стал двухмерным. Только выиграли бы - ведь тогда никто не смог бы отвернуться от красоты!..
Сбежишь, утомленный, и думаешь со злостью: "Тебе, дружочек, любой ценой хочется отнять одноизмерение, чтобы наконец не упираться горбом в спинку кресла".
Мы собирались в клубе по субботам. Курок приходил регулярно и удивлял нас все новыми и все более необычными этюдами - то лист клена, то синица, то младенец. И несмотря на, то, что изображения поражали внезапной свежей красотой, казалось, что они живут иначе, чем простая смертная природа.
О Курке ходили разные слухи. Одни говорили, что он сам изобретает насадки для фотоаппарата и даже сам шлифует линзы. Другие как раз это оспаривали и говорили, что у него родственник в космической оптике и достает ему уни- кальные линзы, выплавленные в невесомости.
Зима уже круто облепила деревья, и Курок перешел на черно-белую пленку. Этюды его были великолепны, особенно запомнился один нечто очень знакомое, но совершенно неуловимое пробрезживает сквозь тонкую, живыми жилками мороза переритую пленку льда.
Однако поразило Другое: от изображения явственно пахнуло холодком. Чудилось: подыши на ледок - и появится прозрачная проталинка.
Сам же Курок был вял, как никогда, малоразговорчив. И ходил боком, выставив плечо.
Приезжала комиссия из столицы- был конкурс и отбор работ на всесоюзную выставку. Клубники трудились как одержимые, комиссия отбирала требовательно, по одному этюду с носа, потом отбирала еще раз...
Ни одной работы Курок пока не показал.
Его вообще не было в это время в клубе. Кое кто приносил вести, что он готовит нечто сногсшибательное.
И Курок явился, волоча под мышкой длинный рулон. Когда развернул обомлели. Ничего "сногсшибательного - обнаженная девица в натуральную величину. Как всякая большая фотография - нечетка, требует перспективы, а залик, где отбиралась работы, мал.
Комиссия была в замешательстве: пoрно это или нет? И склонилась к первому.
Мне же было не по себе. Минут десять я вглядывался в портрет, не доверяя блеснувшей догадке. Смущала вседоступность красоты тела, лица. Лица, которое было мне не просто знакомо...
Да что скрывать! До сего момента я любил ее, любил молча, выжидательно, упорно. Боялся и подстерегал всюду. Кто поймет, что переживал я, когда видел ее на улицах городка и не мог приблизиться? Тайно я настигал ее, фотографировал и ждал. Жизнь диктовала мне быть пугливым, недоверчивым, жизнь шептала: жди, придет мгновение, когда тебе не надо будет униженно чувствовать неуместность своей любви... И я ждал.
Она была прекрасна, и непонятно было, чем она так увлечена, что в нашем мире могло так захватить, заворожить ее всю - от кончиков пальцев до небольших, широко раскрытых глаз? Я готов был стоять и вечно задавать один и тот же вопрос: "Что поразило тебя, какое совершенство могло отвлечь тебя от совершенства твоей красоты?" И, загораясь ревностью, не хотел ответа.
Комиссия уехала. Горбунок туго свернул фотографию, глянул в трубку на тусклый свет зимы и ушел.
Она ходила по тем же улицам, дышала тем же воздухом, тот же мороз румянил ее щеки... Она не могла жить, казалось мне. Или не имела права. Я замирал прямо на улице, становился плоским, сдавленный ревностью,- под ярким маленьким солнцем, в свете высоких сугробов, прислушиваясь к говору прохожих и теряя смысл происходящего. И одновременно слышал в себе голос Курка:. "Так чего же ты тут делаешь? Чего тебе здесь надо?"
Задыхаясь, я кинулся вверх по склону, высокому и безнадежно скользкому, как у Брейгеля, прибежал в шахматную мансарду и спросил Курка, стараясь не сфальшивить: