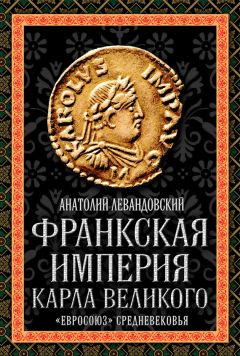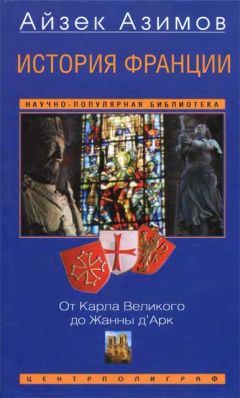Юрий Нестеренко - Приговор
еще на марше, одной конницей он был успел подойти на помощь Ришарду еще
до боя. Полагаю, это дало бы Льву двухкратный перевес в кавалерии. Но
господа рыцари, как бы они ни презирали черную кость, боятся остаться
совсем без ее прикрытия. А расхрабрился он уже потом, добивая
практически беспомощных — а вот тут отрываться от пехоты как раз не
следовало… А в-четвертых, нет ничего более глупого, чем
неконструктивное нытье по поводу уже свершившегося факта.
Большие черные глаза печально взглянули на меня, и я смягчился.
— Извини, Эвьет. Я не хотел тебя обидеть. Просто я отвратно себя
чувствую…
— Нет, это ты меня извини, — твердо ответила она. — Это
действительно нытье и действительно глупость. А тебе очень плохо? Ты
сможешь ехать верхом?
— Это не то, чем я хотел бы сейчас заниматься, но вряд ли у нас
есть выбор. Ничего, шагом как-нибудь доедем. Знать бы только, куда.
Но тут Эвьет вдруг предостерегающе поднесла палец к губам. Я тоже
расслышал металлическое побрякивание, а затем и постукивание копыт по
твердой земле. Похоже, к нам приближался некто в доспехах и при оружии.
"Пристрелю, — зло подумал я. — При первом же намеке на недружелюбие." Но
одна лишь мысль о грохоте огнебоя заставила меня страдальчески
поморщиться. Для начала я обнажил меч — возможно, хватит и такой
демонстрации. Эвьет тоже взвела арбалет. Уклоняться от встречи было уже
поздно, особенно при моей нынешней способности к лихим скачкам, и мы
напряженно ждали.
Сперва рядом с тенью холма показалась по-утреннему гротескная тень
всадника, а затем из-за крутого склона объявился и он сам. Эвьет
прыснула, я тоже улыбнулся. Собственно, никакого всадника не было.
Вместо грозного рыцаря на боевом коне перед нами предстал осел, на
которого были нагружены кое-как увязанные веревкой сверкающие рыцарские
доспехи. Осла вел в поводу невысокий пожилой крестьянин, загорелый почти
до черноты.
Но если нас его явление развеселило, то его открывшееся зрелище
повергло в ужас. Уж не знаю, что впечатлило его больше — девочка,
целящаяся в него из арбалета, или взрослый мужчина с обнаженным
рыцарским мечом, но мужичонка замер, как вкопанный, а затем, прижав
свободную от повода руку к груди, воскликнул:
— Это не я! Богом клянусь, благородные господа, это не я!
— Вот как? — я окинул насмешливым взглядом субъекта, отрицавшего
собственную идентичность. — А кто?
— Не знаю! Нашел! Вот же святой истинный крест, — он истово
перекрестился, — так вот все и валялось! А господина рыцаря нигде рядом
не было, ни живого, ни мертвого!
— А ведь это, пожалуй, Рануара доспехи, — пригляделась Эвьет,
опуская свое оружие. — Эй, ты! Там дыра в нагрудном панцире есть? Вот
тут, возле шеи.
Не думаю, что он мог не заметить пробоину, когда грузил нежданную
добычу, но, не то плохо соображая со страху, не то желая лишний раз
продемонстрировать свою непричастность, тут же принялся старательно
осматривать панцирь и через несколько мгновений радостно возгласил:
— Есть, есть дыра! Аккурат в этом месте!
— А ведь верно, я не видел графских лат у тех троих, — припомнил я.
— Почему они их не взяли, интересно? Доспехи дорогие…
— Наверное, именно поэтому, — ответила Эвьет. — Дорогие, не как у
простых рыцарей — могли дознаться, что графские. Может, там и чеканка
какая особая есть, мы не приглядывались — кулак-то на шлеме точно
приметный… А этим типам очень не хотелось, чтобы их хоть как-то
связали со смертью графа. Самого-то его они зарыли, я это издали видела.
А доспехи так бросили.
Я подумал, почему вместе с Рануаром не закопали и его броню, и
решил, что, скорее всего, соображения, о которых говорила Эвьет, пришли
им в голову уже после того, как могила была зарыта, может быть, даже
после жаркого спора между жадностью и осторожностью — а копать по новой
им было лень.
Меж тем крестьянин, услышав, что речь о смерти целого графа, совсем
остолбенел от ужаса. Он побледнел настолько, насколько позволял его
загар, и мне даже показалось, что я слышу, как стучат его зубы.
— Не дрожи так, — усмехнулся я, убирая меч в ножны. — Мы не
собираемся претендовать на твою добычу. Эти доспехи уже красовались на
одном осле, правда, его глупость стоила жизни двенадцати тысячам
человек, и это только с одной стороны. Так что, полагаю, твой длинноухий
друг сможет носить их с большей пользой.
Мужичонка лишь глупо хлопал глазами в ответ на мои упражнения в
остроумии, и я обратился к более практичным материям:
— Что делать-то думаешь со всем этим железом?
— Да вот… коли ваша милость не прогневается… думал кузнецу
сбыть нашему. А то ведь нонче так дорого все… серп простой и то не
купишь, говорят, все железо на войну ушло… а тут, почитай, на всю
деревню хватит… и на серпы, и на косы, и на лемехи… — он испуганно
замолк, глядя на меня преданным собачьим взглядом.
— Так проходит мирская слава, — прокомментировал я с усмешкой,
обращаясь к Эвьет. Интересно, во сколько раз полный латный доспех,
особенно такого качества, дороже железа, из которого он выкован?
Теоретически он стоит никак не меньше, чем полсотни коров. Впрочем, в
деревне за него не выручишь настоящую цену, а за ее пределами подобному
мужичку продавать графское облачение и впрямь слишком опасно: хорошо,
если обвинят лишь в незаконном присвоении дворянского имущества — а
впрочем, повесить запросто могут и за одно это. Да и окрестные
оружейники в ближайшее время будут просто завалены аналогичными
предложениями от жителей близлежащих сел, так что цены рухнут в разы.
— А ежели вашей милости что из этого надобно, — поспешно произнес
крестьянин, несмотря на ранее сказанное мной, — так разве я осмелюсь…
— Нет, — перебил я. — Не надобно. Скажи мне лучше… звать-то тебя
как?
— Ваша милость, не губите! — мужичонка рухнул на колени.
— Да никто тебя не губит! — рассердился я. — Я просто-напросто
спросил твое имя! Что ты пресмыкаешься? Ты мыслящее существо, или ты
червяк? У твоего осла достоинства и то больше, чем у тебя!
— У осла-то? — мужичонка опасливо заглянул под брюхо ослу. — Ну,
вестимо, больше… на то он и осел…
— Ид-диот! — рявкнул я. — Я про достоинство говорю, а не про трубу