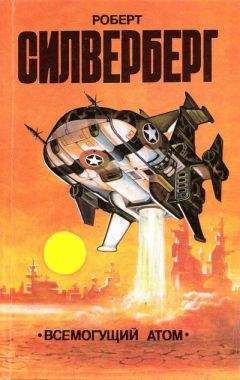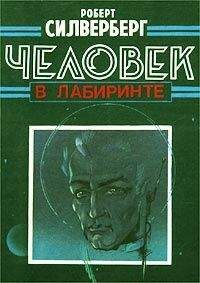Роберт Силверберг - Ночные крылья. Человек в лабиринте. Полет лошади
Я его быстро догнал.
Мне было странно видеть его спотыкающуюся неуверенную походку, потому что даже плотное коричневое одеяние не могло скрыть его сильного и молодого тела. Он шел выпрямившись, развернув плечи, и все же походка у него была неуверенная и шаркающая, какая она бывает обычно у стариков. Когда я догнал его и заглянул под капюшон, я все понял: к его бронзовой маске, которые обычно носили все Пилигримы, был прикреплен отражатель для слепых, который помогал им вовремя узнавать о встречающихся на пути препятствиях. Он будто кожей ощутил мое присутствие и сказал:
— Я слепой Пилигрим. Прошу, не причиняй мне вреда.
Это не был голос Пилигрима. Это был сильный, резкий и властный голос.
Я ответил:
— Я никому не собираюсь причинять вреда. Я Наблюдатель, который прошлой ночью потерял работу.
— Многие лишились своей работы прошлой ночью, Наблюдатель.
— Только не Пилигримы.
— Верно, — сказал он.
— Куда ты идешь?
— Прочь из Рама.
— И никуда конкретно?
— Никуда, — сказал Пилигрим. — Совсем никуда. Я буду просто бродить по свету.
— Тогда мы могли бы странствовать вместе, — предложил я; ведь странствовать с Пилигримом считается небывалой удачей, а я, потеряв Гормона и Эвлуэлу, все равно бы странствовал в одиночку. — Я иду в Парриш. Пойдешь со мной?
— В Парриш, так в Парриш, мне все равно, — сказал он горько. — Пойдем. А что за дела могут быть там у Наблюдателя?
— У Наблюдателя теперь нигде не может быть дел. Я иду в Парриш, чтобы предложить свои услуги Летописцам.
— А, — сказал он. — Я тоже был членом этого союза, но это было лишь почетное звание.
— Теперь, когда Земля пала, я хочу больше узнать о ее славной истории.
— Разве пала вся Земля, а не только Рам?
— Думаю, что да, — ответил я.
— Понятно, — ответил Пилигрим.
Он погрузился в молчание, и мы отправились в путь. Он облокотился на мою руку и уже больше не спотыкался, а зашагал уверенной молодой походкой. Время от времени он издавал какой-то звук, что было похоже на вздох или сдавленное рыдание. Когда я расспрашивал его о жизни Пилигрима, он отвечал либо уклончиво, либо отмалчивался. Мы были в пути уже около часа и пошли через лес, когда он неожиданно сказал:
— У меня от этой маски болит лицо. Помоги мне получше приспособить ее.
И, к моему удивлению, он начал снимать ее. У меня перехватило дыхание — ведь Пилигримам запрещено показывать свое лицо. Может, он забыл, что я зрячий?
Снимая маску, он сказал:
— Вряд ли тебе понравится это зрелище.
Бронзовая решетка соскочила с его лица, и прежде всего я увидел, что он перестал видеть свет совсем недавно: зияющие дыры глазниц, в которых побывал не скальпель хирурга, а скорее всего, расставленные пальцы. Потом я узнал резко очерченный породистый нос и, наконец, плотно сжатые тонкие губы Принца Рама.
— Ваше Высочество! — воскликнул я.
Струи засохшей крови на щеках. Вокруг глазниц какая-то мазь. Вряд ли он чувствовал сильную боль, потому что, как я думаю, он убил ее этим зеленоватым снадобьем. Но вот боль, которая пронзила меня, была настоящей.
— Больше не Высочество, — сказал он. — Помоги мне надеть маску! — Руки его задрожали, когда он ее мне протянул. — Края надо растянуть. Они сильно давят мне на щеки. Здесь… и здесь…
Я быстро сделал все, что нужно, потому что не мог смотреть на его обезображенное лицо.
Он надел маску.
— Теперь я Пилигрим, — сказал он тихо. — Рам живет без своего Принца. Ты можешь выдать меня, если хочешь, Наблюдатель. Если нет, помоги мне добраться до Парриша и, если я когда-нибудь опять окажусь у власти, ты будешь хорошо вознагражден.
— Я не предатель, — сказал я ему.
Мы молча пошли дальше. Я не имел понятия, о чем можно говорить с таким человеком. Да, это будет невеселое путешествие. Но теперь мне было суждено стать его проводником. Я подумал о Гормоне и о том, что он сдержал свое слово. И об Эвлуэле я думал тоже, и тысячу раз у меня на языке вертелся вопрос, что стало с его любовницей, маленькой Воздухоплавательницей, в ту ночь, но слова не шли с губ.
Наступили сумерки, но золотисто-красное солнце все еще горело на западе. И вдруг я остановился, и у меня вырвался хриплый звук удивления, потому что над нами промелькнула тень.
Высоко в небе парила Эвлуэла. На ее коже горели отблески заходящего солнца, а ее крылья, раскинутые во всю ширь, переливались всеми цветами радуги. Она уже была на высоте сотни человеческих ростов от земли и поднималась все выше, и я ей, наверное, казался лишь точкой среди деревьев.
— Что это, — спросил Принц. — Что ты увидел?
— Ничего.
— Отвечай, что ты увидел!
Мне трудно было обмануть его.
— Я увидел Воздухоплавательницу, Ваше Высочество. Хрупкую девушку в вышине.
— Значит, наступила ночь.
— Нет, — сказал я. — Солнце еще не зашло.
— Но этого не может быть! У нее ведь только ночные крылья. Солнце бы швырнуло ее на землю!
Я колебался. Я не мог заставить себя объяснить ему, как Эвлуэла могла летать днем, хотя у нее и были только ночные крылья. Я не мог сказать Принцу Рама, что рядом с ней летел Гормон, летел без крыльев, легко скользя в воздухе, обнимая ее хрупкие плечи, помогая ей преодолевать давление солнечного ветра. Я не мог сказать ему, что это его возмездие летит над его головой с его последней возлюбленной.
— Ну? — спросил он требовательно. — Почему же она летит днем?
— Я не знаю, — ответил я. — Для меня это тоже тайна. Сегодня происходит многое, чего я больше не в состоянии понять.
И он снова погрузился в молчание. Мне очень хотелось позвать Эвлуэлу, но я знал, что она не может и не хочет слышать меня, и поэтому я шел дальше, вслед за заходящим солнцем, к Парришу, ведя слепого Принца. А над нами, высоко в небе, летели Гормон и Эвлуэла, летели в сиянии угасающего дня, пока не поднялись так высоко, что я потерял их из виду.
Часть II
1
Странствовать с Принцем, который лишился власти, дело нелегкое. Он остался без глаз, но гордыня его была при нем; слепота не научила его смирению. Он надел маску и одежды Пилигрима, но благочестия в его душе не было.
И пока мы шли к Парришу ранней весной, весь его двор состоял из одного человека — меня. По его желанию я развлекал его историями о своих странствиях; я старался помочь ему преодолеть чувство горького разочарования. Взамен я получал лишь уверенность в том, что у меня будет еда. Ведь никто не может отказать Пилигриму в пище. И в каждом селении на нашем долгом пути мы останавливались в гостиницах, где его кормили и, как его спутнику, кое-что перепадало и мне. Как-то раз, в самом начале нашего пути, он по привычке высокомерно сказал хозяину гостиницы: