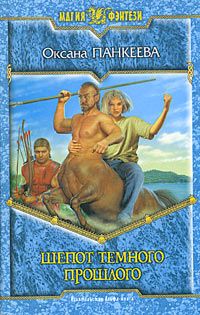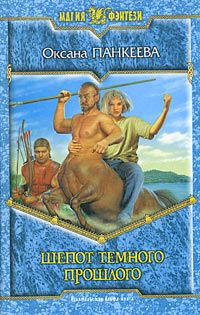Джеймс Стивенс - Кувшин золота
- Тощая?
- И причина того, что я заговорил с вами, - продолжал Философ, - в том, что вы - женщина толстая.
- Я не толстая! - был ее сердитый ответ.
- Толстая, - настоял Философ, - и поэтому-то вы понравились мне.
- А, ну, если вы в этом смысле... - женщина хихикнула.
- Я думаю, - продолжал Философ, с восторгом глядя на нее, - что женщина должна быть толстой.
- Сказать вам по правде, - подхватила женщина с чувством, - я и сама так думаю. Никогда не встречала тощей женщины без того, чтобы она оказалась бы стервой, и никогда не встречала толстого мужчины, чтобы он не оказался дураком.
Толстая женщина и тощий мужчина; таково естество. - добавила она.
- Именно так, - сказал Философ, наклонился и поцеловал женщину в глаза.
- Ах, грубиян! - вскрикнула женщина, загородясь от него рукой.
Философ удрученно отодвинулся назад.
- Простите меня, - начал он, - если я потревожил вашу добродетель...
- Это слово женатого человека, - сказала она, быстро встав, теперь-то я вижу; но все равно в вас очень много от холостяка, да поможет вам Господь! Пойду я домой.
И, сказав так, она опустила свой кувшин в родник и отвернулась.
- Может быть, - предложил Философ, - мне подождать, пока не вернется домой ваш муж, и попросить у него прощения за обиду, которую я ему причинил?
Женщина повернулась к нему, и глаза у нее стали большие, как блюдца.
- Что? - переспросила она. - Только попробуйте, увяжитесь за мной, я спущу собак; честное слово! - и женщина зашагала домой.
После минутного раздумья Философ пошел своей тропой через холм.
День уже вполне разошелся, и пока Философ шел себе, счастливое спокойствие окружающей природы снова вошло в его сердце и окрасило встречу с женщиной в такие оттенки, что через недолгое время она уже стала не более чем приятным и любопытным воспоминанием. Ум его снова был изрядно занят, но не мыслями, а раздумьем о том, как это он дошел до того, чтобы поцеловать незнакомую женщину?
Философ сказал себе, что так вести себя нельзя; но это утверждение было порождено лишь машинальной работой ума, изрядно поднаторевшего в различении добра и зла, ибо почти в ту же секунду Философ убедил себя в том, что сделанное им не имело ни малейшего значения. Добро и зло соприкасались и сливались друг с другом так тесно, что трудно было разделять их, а поношения, обращенные к одному из них, казались несовместимыми с его весом, тогда как другое никоим образом не оправдывало тех восхвалений, с которыми было связано. Разве зло оказывает какое-либо мгновенное, или хотя бы отдаленное, воздействие на жизнь, которое не было бы тут же уравновешено добром? Но эти тонкие рассуждения волновали Философа недолго. Ему не хотелось погружаться в какие-либо самокопания. Достаточно было просто чувствовать себя хорошо. Почему мысль так неотделима от нас, так неотвязна? Мы не знаем о существовании какого-либо внутреннего органа, пока тот не выходит из строя, и тогда это знание начинает мучить нас. Не должна ли деятельность здорового мозга быть такой же незаметной и такой же полноценной?
Почему нам приходится мыслить вслух и путешествовать от силлогизма к следствию, осторожничая с выводами и не доверяя посылкам? Мысль, как мы ее знаем, - болезнь, не более. Здоровый ум должен выдавать суждения, а не свою работу. Наш слух не должен слышать голоса сомнений и не обязан выслушивать "за" и "против", в которых мы вечно теряемся и путаемся.
Дорога лентой вилась по горам. По обеим ее сторонам тянулись кусты и заросли - небольшие тугие деревца, державшие всю свою листву в руках и предлагавшие ветру попробовать вырвать из их цепкой хватки хоть один листок. Холмы вздымались и опадали, раскрываясь и дыбясь повсюду, куда хватало глаз. Тишину теперь прерывало журчание ручья. Где-то вдали мычала корова, долго, монотонно и протяжно, а то из ниоткуда в никуда проносилось блеяние козы. Но большую часть времени стояла тишина, звеневшая мириадом маленьких крылатых жизней. Поднимаясь на гору, Философ наклонялся вперед, энергично топая ногами и пыхтя, будто бык, от прилива жизненных сил. Спускаясь под гору, он отклонялся назад и позволял своим ногам делать все, что им заблагорассудится. Разве они не знали, что надо делать? - удачи им, и вперед!
На дороге Философ увидел старуху, ковылявшую впереди. Она опиралась на палку, и руки у нее были красные, распухшие от ревматизма. Хромала старуха по той причине, что в ее бесформенные тапки попали камешки. Одета она была в жалчайшее тряпье, какое только можно вообразить, и тряпки были связаны такими хитрыми узлами, что, однажды надев, одеяние ее уже невозможно было снять. На ходу старуха ворчала и бормотала себе под нос, и губы ее ходили ходуном, словно каучуковые.
Философ вскоре нагнал ее.
- Доброе утро, мэм, - сказал он.
Но та не услышала: похоже, она прислушивалась только к боли в ногах из-за камешков.
- Доброе утро, мэм, - сказал Философ снова.
На этот раз она услышала его и ответила, медленно обратив к нему свои старушечьи выцветшие глаза:
- И вам-то доброе утро, сэр, - сказала она, и Философ подумал, что лицо у нее, пожалуй, доброе.
- Что такое случилось с вами, мэм? - спросил Философ.
- Да вот боты мои, сэр, - ответила она. - Полно камней в них, я уж просто еле хожу, Господи, помоги мне!
- А почему бы вам их не вытряхнуть?
- Ах, сэр, да вот в чем дело, стоит ли беспокоиться, ведь в них столько дыр, что не пройти мне и двух шагов, как камни набьются снова, а старухе нельзя все время кланяться, Господь ей помоги!
Возле дороги стоял маленький домик, и, увидев его, старуха немного просветлела.
- Ты знаешь, кто живет в этом доме? - спросил Философ.
- Нет, - ответила она, - но дом красивый, окна чистые, колокольчик на двери блестит, и из трубы идет дым - неужели хозяйка не даст мне чашечку чая, если я ее попрошу - старухе-то, что ковыляет по дороге с палкой! - а может, и кусочек мясца или яичко...
- Спроси, - предложил Философ мягко.
- Да и спрошу, - сказала она и присела на дорогу напротив дома, и Философ тоже присел рядом.
Из-за дома вышел маленький щенок и осторожно подошел к ним. Намерения у него были дружелюбные, но он уже знал, что на дружеские действия ответ иногда бывает совсем другой, потому что, подойдя поближе, поджал свой куцый хвостик и униженно распластался по земле. Но очень скоро песик понял, что ничего плохого ему не сделают: он подошел к старухе и безо всяких предупреждений прыгнул ей на колени.
Старуха заулыбалась:
- Ах ты, чертяка! - сказала она и дала ему прихватить зубами свой палец. Щенок в восторге начал жевать ее костлявый палец, а потом устроил потешную схватку с обрывком тряпки, свисавшим с ее груди, лая и урча от радостного возбуждения, пока старуха гладила и трепала его.
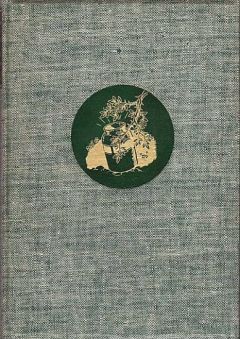
![Жюль Верн - Мэтр Захариус [Старый часовщик]](/uploads/posts/books/67376/67376.jpg)