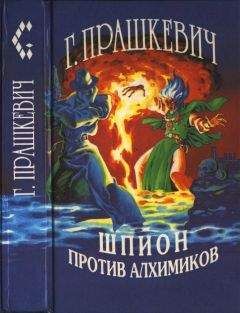Геннадий Прашкевич - Шпион в Юрском периоде
Профессор Моран, погрузив в анабиоз свою дочь и некоего Викентьева, смелого человека, решившегося на опасный эксперимент, отправляет их в далекое будущее. В отличие от классических утопий роман Окунева динамичен, чему в немалой степени помогает то, что Окунев просто еще не успел подпасть под влияние расхожих большевистских догм, и то, что язык романа свеж, не превращен в газетный.
“Один из магнатов — нефтяной король. Его рыхлое вспухшее лицо, синее, бугристое, изъеденное волчанкой; его оттопыренные, как ручки вазы, красные уши; его яйцевидный блестящий череп — все это, заключенное в пространстве между башмаками и цилиндром, носит громкое, известное во всех пяти частях света имя — Эдвард Гаррингтон…”
Или: “На палубе: равнодушные квадратные лица англичан, итальянские черные миндалевидные глаза; белокурые усы немца, закопченные сигарой; узенькие щелочки, а в них юркие черные жучки — зрачки японца; ленивый серый взгляд славянина; резко сломанный хищный нос грека…”
Конечно, описывать мир будущего, грядущий мир — это не набрасывать портреты пассажиров обреченного парохода.
Страшновато читать о том, что вся Земля покрыта всемирным городом — “…вся зашита в плотную непроницаемую броню”; не радует и то, что женщины и мужчины грядущего одеты совершенно одинаково. Правда, корабли в грядущем мире Якова Окунева работают на внутриатомной энергии, люди умеют общаться друг с другом мысленно, никакого разделения труда нет — сегодня ты метешь метлой двор, завтра решаешь математические задачи, наконец, полностью отсутствует собственность, личное жилье. “Зачем? У нас нет ничего своего. Это дом Мировой Коммуны”. Нет в грядущем мире Окунева преступности, все дети там — достояние Мирового Города (мотив, развитый в конце 50–х И. Ефремовым). Это поистине счастливый мир, единственной реальной драмой которого остается драма неразделенной любви.
Впрочем, и такое несчастье — лечится.
“Всякая утопия намечает этапы и вехи будущего, — писал в послесловии к роману Я. Окунев. — Однако утопист — не прорицатель. Он строит свои предположения и надежды не на голой, оторванной от жизни, выдумке. Он развивает воображаемое будущее из настоящего, из тех сил науки и форм человеческой борьбы, которые находятся в своей зачаточной форме в настоящее время.
Возможно, что многие читатели, прочитав этот роман, сочтут все то, что в нем изображено, за несбыточную мечту, за детскую выдумку писателя. Но автор вынужден сознаться в том, что он почти ничего не выдумал, а самым старательным образом обобрал современную науку, технику и — самое главное — жизнь.
Здесь изображается будущий коммунистический строй, совершенно свободное общество, в котором нет не только насилия класса над классом и государства над личностью, но и нет никакой принудительной силы, так как человеческая личность совершенно свободна, но в то же время воля и желание каждого человека согласуются с интересами всего человеческого коллектива.
Выдумка ли это?
Нет.
Вдумайтесь в то, что началось в России с 25 октября 1917 года, всмотритесь в то, что происходит во всем мире. Девять десятых всего человечества — трудящиеся — борются за идеал того строя, который изображен в этом романе, против кучки паразитов, противодействующей осуществлению абсолютной человеческой свободы. В умах и сердцах теперешнего пролетариата грядущий мир уже созрел.
Все чудеса техники грядущего мира имеются уже в зародыше в современной технике. Радий, огромная движущая и световая энергия которого известна науке, заменит электрическую энергию, как электрическая энергия заменила силу пара и ветра. Работы ученых над продлением человеческой жизни, над выработкой искусственной живой материи, над вопросами омоложения, над гипнозом, над психологическими вопросами достигли за последние десятилетия крупных успехов. Современная наука делает чудеса и шагает семимильными шагами к победе над природой. Все то, что изображено в этом романе, либо уже открыто и применяется на деле, либо на пути к открытию. Поэтому автор имеет даже основание опасаться, что он взял слишком большой срок для наступления царства грядущего мира, и убежден, что через 200 лет действительность оставит далеко позади себя все то, что в романе покажется человеку выдумкой”.
Пятьдесят семь часов девяносто четыре минуты.
“В то время, когда диалектика истории привела один класс к истребительной войне, а другой — к восстанию; когда горели города, и прах, и пепел, и газовые облака клубились над пашнями и садами; когда сама земля содрогалась от гневных криков удушаемых революций и, как в старину, заработали в тюремных подвалах дыба и клещи палача; когда по ночам в парках стали вырастать на деревьях чудовищные плоды с высунутыми языками; когда упали с человека так любовно разукрашенные идеалистические ризы, — в это чудовищное и титаническое десятилетие одинокими светочами горели удивительные умы ученых…” (Алексей Толстой).
Не из рассуждений ли Якова Окунева проросла пышно впоследствии так называемая экстраполярная фантастика?
Впрочем, Евгений Замятин, работая над антиутопией “Мы”, тоже мог сказать, что “…развивает воображаемое будущее из настоящего, из тех сил науки и форм человеческой борьбы, которые находятся в своей зачаточной форме в настоящее время”.
Правда, выводы Замятина не совпадали с выводами Окунева.
Е. Замятин попадал в тюрьму, побывал в ссылке. Окончив политехнический институт, работал в Петербурге на кафедре корабельной архитектуры, позже, в Англии, строил ледоколы. Вернувшись в революционную Россию и будучи глубоко убежденным в том, что именно писатель обязан предупреждать общество о первых симптомах любых зарождающихся социальных болезней, Е. Замятин не только не замалчивал своих взглядов и сомнений, но, напротив, считал обязательным доводить эти взгляды и сомнения до читателей.
“По ту сторону моста — орловские: советские мужики в глиняных рубахах; по эту сторону — неприятель: пестрые келбуйские мужики. И это я — орловский и келбуйский, — я стреляю в себя, задыхаясь, мчусь через мост, с моста падаю вниз — руки крыльями, — кричу…”
Остро, болезненно реагировал Е. Замятин на быстрое появление, как он выразился, писателей юрких, умеющих приспосабливаться. “Я боюсь, — писал он в своей знаменитой статье, опубликованной еще в 1921 году, — что мы этих своих юрких авторов, знающих, “когда надеть красный колпак и когда скинуть”, когда петь сретенье царю и когда молот и серп, — мы их преподносим народу как литературу, достойную революции. И литературные кентавры, давя друг друга и брыкаясь, мчатся в состязании на великолепный приз: монопольное писание од, монопольное право рыцарски швырять грязью в интеллигенцию…”