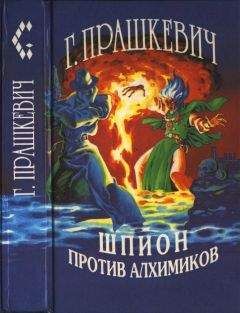Геннадий Прашкевич - Шпион в Юрском периоде
Открыть Антологию должен был Максим Горький, писатель, мною любимый.
Но не “Песней о Буревестнике” мы хотели открыть Антологию и не скучными итальянскими сказками, а небольшим малоизвестным рассказом, кстати, так и называющимся — “Рассказ об одном романе”.
Героиня рассказа — женщина, из тех, что “…всю жизнь чего‑то ждут, в девушках требовательно ждут, когда их полюбит мужчина, когда же он говорит им о любви, они слушают его очень серьезно, но не обнаруживая заметного волнения, и глаза их, в такой час, как бы говорят: “Все это вполне естественно, а — дальше?”
Проводив гостей, героиня садится на террасе дачи и вдруг замечает, что кто‑то еще не ушел: вон упрямо сидит мужчина на скамье под деревом, достаточно нелепый в летнем белом костюме (осень) и странный; героиня вдруг замечает, что он не отбрасывает тени (прием, понятно, не новый). Наверное, это писатель Фомин, решает героиня. Назойливый тип, все время лезет и лезет к ней. Указанный писатель действительно неприятен героине, он постоянно на глазах и “…в то же время его как будто не было, а была толпа разнообразных мужчин, женщин, стариков и детей, крестьян и чиновников, все они говорили его голосом, противоречиво и смешно, глупо и страшно, скучно и до бесстыдства умно”.
Но на скамье оказался не писатель, а герой, придуманный им, некто Павел Волков — более или менее материализовавшийся в меру убедительности описаний. Воспринимая мир, как и следует воспринимать мир литературному персонажу, Павел Волков и героиню горьковского рассказа, живую, подвижную, думающую, принимает за литературный персонаж. “Я думаю, — говорит он, — что с этого — вот с этой встречи — и начинается роман. Должно быть, так и предназначено автором: сперва вы относитесь ко мне недоверчиво, даже неприязненно, а затем…”
Правда, по–настоящему это затем не случается. Но героиня понимает всю тоску разговаривающего с ней персонажа. “Мимо меня изредка проходят люди, они говорят о чем‑то неинтересном, ненужном; какой‑то рябой человек в чесучовой паре соблазнил толстенькую даму тем, что у него в парниках великолепно вызревают ананасные дыни и, между словами, кусал ей ухо, совершенно как лошадь, а она — взвизгивала тихонько. Страшно глупо все, надоело, бессмысленно! Сидишь и думаешь: как невероятно скучны, глупы и расплывчаты реальные люди, и до какой степени мы, выдуманные, интереснее их! Мы всегда и все гораздо более концентрированы духовно, в нас больше поэзии, лирики, романтизма. И как подумаешь, что мы, в сущности, бытийствуем только для развлечения этих тупых, реальных людей…”
И добавляет: “Вы ведь сами такая же”, на что героиня возмущенно отвечает: “Нет!”
Как невероятно скучны, глупы и расплывчаты реальные люди.
Однажды покойный Дима Биленкин спросил меня: а кто, в сущности, реальнее — Робинзон Крузо, Гулливер, капитан Немо или реальный сосед по лестничной площадке?
Не слабый вопрос.
Герой Фомина–Горького — это нечто нематериальное, нечто вроде флатландца, он и тени‑то не отбрасывает, в некоторых положениях он фактически вообще не виден, и все же он реален, он действительно реальнее соседа по площадке, о котором ты только и знаешь, что он в одно время с тобой выносит мусор к машине. Откуда‑то издалека, из давних лет доносится до нас его жалующийся голос: “Разве не кажется вам, что жизнь была бы проще, удобнее, менее противоречива, если бы в ней не было всех этих Дон–Кихотов, Фаустов, Гамлетов, а?..”
Рассказ очень горьковский.
“Где‑то далеко поют девки и, как всегда, собаки лают на луну, очень благообразную и яркую, почти как солнце, лучи которого кто‑то гладко причесал”.
И отступления очень горьковские: “Она села к столу, поправила отстегнувшийся чулок и долго сидела, играя ножницами для ногтей. Потом стала полировать ногти замшей — лучше всего думается, когда полируешь ногти. Очень жаль, что Иммануил Кант не знал этого”.
Действительно…
Размышления героини приводят к тому, что этот привязчивый тип писатель Фомин в общем не так уж и глуп. Он, конечно, некрасив, неуклюж, но все же он самый интересный человек среди ее знакомых. И она пишет ему письмо, укоряя его в несовершенстве, в лени, в нежелании дописывать начатое. “Он даже не особенно умен, этот Волков, — рассуждает она о литературном персонаже, с которым столкнулась. — Он не удался Вам, и Вы должны как‑то переделать, переписать его. Во всяком случае, Вам необходимо сделать так, чтобы это существо не шлялось по земле каким‑то полупризраком — я не знаю чем! — и не компрометировало Вас. Подумайте: сегодня он у меня, завтра у другой женщины — он ищет женщину, как Диоген искал человека…”
Что‑то смутно угадывалось в тумане…
“Лицо, измятое, как бумажный рубль” — Александр Грин. “Улыбка, неопределенная, как теория относительности” — Александр Абрамов. Право, не сравнить с фразами из Н. Г. Чернышевского — “Долго они щупали бока одному из себя”, хотя и уступает в простоте М. Е. Салтыкову–Щедрину — “Летел рой мужиков”. Я уж не говорю о блистательной живописи Алексея Толстого: “В Тамани остановились на берегу моря у казачки и здесь в первый раз купались в соленой воде среди живых медуз в виде зонтика с пышным хвостом, плавающих посредством вздохов…”
В какой‑то чайхане мы задержались.
Хорошо бы Антологию снабдить портретами.
Мы пили чай, обливаясь горячим счастливым потом.
Многие знают в лицо Михаила Афанасьевича или Ивана Антоновича, но многие ли могут представить лицо профессора Н. Н. Плавильщикова или Льва Гумилевского?
Два цыгана зазывно орали под неумолчный ропот Алайского рынка. “Что им история? Эпохи? Сполохи? Переполохи? Я видел тех самых бродяг с магическими глазами, каких увидит этот же город в 2021 году, когда наш потомок, одетый в каучук и искусственный шелк, выйдет из кабины воздушного электромотора на площадку алюминиевой воздушной улицы…” (Александр Грин).
Мы не представляли Антологию без портретов.
Расстрелянный Сергей Буданцев, счастливчик Лев Никулин, столетний Абрам Палей, интеллигентный Александр Беляев, седобородый академик Владимир Афанасьевич Обручев, загадочная Наталья Бромлей. А с ними Эфф — некий Владимир Эфф, радист с не существовавшего корабля.
На Владимира Эффа меня вывел библиограф и собиратель фантастики Георгий Кузнецов. Говорят, его квартира напоминает сундук с книгами. Понятно, с фантастическими. Говорят, у него можно отыскать любую книгу любого года издания, и, наверное, это так, потому что давние издания Натальи Бромлей, Валерия Язвицкого, редкостные, давно не выходящие журналы с рассказами и повестями Владимира Орловского, Бориса Ани–бала, Андрея Зарина я получал именно от Георгия. Для него это не было проблемой. Тяжелую годовую подшивку журнала “Радио всем” тоже принес он. Вот писатель, сказал Георгий, от которого остался только один роман, и ничего, кроме романа. Ни биографии, ни портрета, ни даже свидетельств рождения.