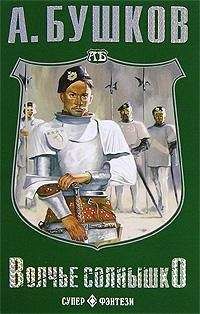Александр Бушков - Волчье солнышко (Сборник)
Князь Иван, обер-камергер, тайный советник, майор Преображенского полка и кавалер высших орденов, при близком знакомстве со свидетельствами о нем современников симпатии особой, несмотря на его равнодушие к придворным интригам, не вызывает. Как раз потому, что энергия, не растраченная на паркетную грызню, с лихвой тратилась на развлечения, порой весьма непривлекательные. Поименно всех тех, кто получил тумаки от разгульной компании фаворита, мы не знаем – как не знаем в точности и имен всех женщин, имевших несчастье понравиться Ивану, – применять силу он в таких случаях не гнушался и не считал это чем-то зазорным. Словом, фигура отнюдь не лирическая. И тем не менее, и все же…
Вряд ли возможно быть в девятнадцать лет столь уж законченным подонком. Если вдуматься, это был не более чем до предела разбалованный своим особым положением юнец. Мог и оформиться в отъявленную сволочь. Мог и, перебесившись, блеснуть талантами – воинскими или иными, род Долгоруких дал России немало выдающихся людей. Однако кем мог бы стать князь Иван, оставаясь в коловращении столичного бомонда, гадать бессмысленно. Нам известно лишь, что однажды он понял, что влюблен в Наташу Шереметеву.
Балы 1729 годаО светелках, девичьих тюрьмах, уже прочно забыли. Никому уже не казалось богомерзким и идущим противу канонов российского бытия то, что кавалеры танцуют с дамами под завезенную из немцев музыку (хотя ударение в этом новом для Руси слове еще ставили на втором слоге) и ведут галантные словесные дуэли, сиречь флирт. Если для молодежи времен Петра I сие времяпровождение при всей его приятности оставалось иноземной новинкой, к коей следовало привыкать, то сейчас выросло второе поколение, уже не представлявшее себе жизни без балов и менуэта, – восемнадцатилетние 1729-го, как и молодежь любых других времен, смутно представляли себе то, что происходило до их рождения, и считали, что, конечно же, Санкт-Петербург, стольный град, существовал со дня сотворения мира или по крайней мере времен Владимира Крестителя.
Переведенная и напечатанная в год Полтавской битвы «Грамматика любви», учившая, «како вести любовные разговоры и возбуждать к себе симпатию», казалась уже, по правде говоря, немного устаревшей. Как и знаменитое «Юности честное зерцало», чуточку простодушно учившее, что за ествою не следует чавкать и чесати голову. И аккурат в 1729 году сын астраханского священника двадцатишестилетний Василий Кириллыч Тредиаковский, не ставший еще академиком и не вошедший в зенит своей славы, но успевший уже окончить московскую Славяно-греко-латинскую академию (старейший «вуз» Московского государства), побывать в Голландии и посвятить три года Сорбонне, перевел галантный роман аббата Талемана «Езда на остров любви»… (Интересно, что у истоков куртуазного французского романа стояли как раз священники – аббат Талеман, аббат Прево…) На родине, во Франции, творение Талемана уже устарело, но российские дворяне, воспринимавшие европейские моды с естественным отставанием, приняли как новинку странствия кавалера Тирсиса в поисках своей возлюбленной Аминты. Остров Любви, город Надежда, река Притязаний замелькали в галантных беседах, и политес требовал досконального знания сих вымышленных географических пунктов. Василий Кириллыч Тредиаковский сразу стал моден, был принят в знатных домах и мимоходом зело шокировал архимандрита Заиконоспасского монастыря, равно как и монастырскую ученую братию. Рассказывая оным о преподавании философии в Париже, ученый попович как-то незаметно дошел до утверждения, что господа бога-то, очень даже возможно, и нету… Некоторое смятение умов и толки о сей лекции никаких неприятных последствий для вольнодумца не возымели – российская инквизиция, пролившая неизмеримо менее крови, нежели ее европейские сестры, но все же обладавшая характером отнюдь не голубиным, на сей раз как-то просмотрела.
Но молодежь о дискуссиях в Заиконоспасском монастыре если и слышала, то краем уха, а что такое Сорбонна и где она помещается, вряд ли знала. Были занятия и поинтереснее. Звучали нежные переливы «Времен года» Вивальди, сменялись менуэтом, «королем танцев и танцем королей», сияли окна залы, сияли свечи, сияли драгоценные камни на высших кавалериях князь Ивана Долгорукого, сияли глаза Наташи Шереметевой, весь мир состоял из сияния и музыки, этим двоим казалось, что в мире существует все же что-то высшее и вечное, что это их первый танец – хотя он был бог знает которым по счету, о них уж и судачить перестали…
А бравый гвардионец поручик Голенищев, из числа обычных сокомпанейцев по буйству князя Ивана, сказал поручику гвардии и тоже сокомпанейцу Щербатову:
– Дурит Ванька, право слово. Сие ему несвойственно.
– Дурит, – согласился сокомпанеец Щербатов. – Вид, я тебе скажу, у него прямо-таки пиитический. Дрейфует по реке Притязаний, потерявши румпель. Однако же Натали…
Они переглянулись и молча покивали друг другу, соглашаясь, что Натали аббатовой Аминте вряд ли уступает, а то и превосходит оную (Талемана они, как и полагалось, штудировали старательно). А еще они, будучи ненамного старше князь Ивана, искренне полагали, что познали все удовольствия жизни, чуточку устали от нее и знают ее насквозь, знают все о всех наперед, а также – что ничего серьезного в жизни нашей не существует, а имеется лишь, согласно Екклесиасту, всяческая легковесная суета. Хотя мода на томную меланхолию должна была расцвести пышным цветом лишь лет через полсотни, с появлением «Страданий юного Вертера», провозвестники, как водится, наличествовали там и сям – ох уж эти провозвестники…
Поскольку все хорошее когда-нибудь кончается, кончился и бал, что было, в общем-то, не столь уж трагическим огорчением – их еще много предстояло впереди, – и началась веселая суета разъезда. Мажордом зычно выкрикивал кареты, факелы бросали на снег колышущиеся тени, скрипели полозья, догорали огни фейерверка, и князь Иван в одном кафтане сбежал по ступеням, чтобы распахнуть дверцу шереметевского возка (лакей догадливо смылся на запятки).
– Наталья Борисовна, – сказал он словно бы запыхавшись, хотя пробежал всего ничего. – Вскорости пришлю сватов…
Нежный мех воротника закрывал ее лицо, видны были только глаза, и не понять, то ли они смеялись, то ли нет. Золотой змейкой чиркнула по небу ракета и рассыпалась мириадом искр.
– Присылайте, князь, – сказала Наташа. – Выслушаю. А Может, и со двора согнать велю. Не решила еще…
И прикрикнул на милых залетных осанистый кучер, князь Иван остался смотреть вслед возку, но долго не выстоял – подъезжали другие возки, коим он мешал, да и морозило. Он вернулся на крыльцо, откуда за ним давно вели наблюдение поручики Голенищев со Щербатовым.