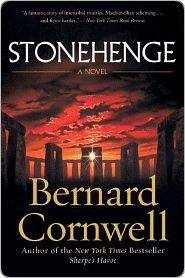Н Никандров - Проклятые зажигалки !
- И что вы понаделали!.. - кричала она еще со двора, закатив от усталости и отчаянья глаза, и, еле живая, ввалилась в комнату с худым, костлявым, безжизненным, землистым лицом, с толстым слоем уличного песку на бровях, на щеках, на ушах, подпоясанная, как подорожная странница, простой веревкой. - Делали б, окаянные, как делали раньше! А то понавыдумывали кто его знает чего! "Плоские"! "Плоские"! Какие такие могут быть "плоские"! Прежние лучше шли. Уф... - повалилась она на стул. - Кто ни подойдет, каждый спрашивает: "а круглых, цилиндрических, какие были раньше, нету?" Народ, как сговорился "дай и дай круглых, те надежнее". Кто ни возьмет плоскую зажигалку, повертит ее в руках и потянет носом: "а, это такая плоская". И возвращает товар обратно. Только и слышишь от всех: "вот прежние, трубками, те были хорошие! Вот, за те можно было цену дать!".
- Эти же лучше!.. - простонал Афанасий и изобразил на лице горькую гримасу.
- Тебе они, может, и лучше, а людям хуже! - оборвала его Марья, сидя на стуле и разматывая с себя платок, шарф, веревку, пальто... - Понаделали делов! Понавыдумывали на свою голову! "Плоские", "плоские", и всю эту ночь спать никому не давали! Я ходила сегодня по толчку, как пьяная: тут ночь не спала, кружится голова, а тут сердце сосет горе: никто не берет новые зажигалки! Прямо хоть ложись и помирай! Я зашла в базарное отхожее, стала, прислонилась головой к стенке и давай плакать. Всю свою жизнь припомнила! Спасибо женщины, которые заходили туда, обступили меня и посочувствовали мне: все-таки своя сестра, женщина, не ваш брат, чорт, мужчина...
- По крайней мере, что же покупатели говорят про плоские зажигалки? спросил Афанасий, стоя перед Марьей с оглушенным видом. - Что им в них не нравится?
- Я же тебе говорила, что они говорят! - раздраженно сказала Марья. Говорят: "какие-то четырехугольные, позапаянные кругом". Я говорю: где позапаянные? А они: "вот, вот"... И ковыряют пайку ногтем.
- И ты давала ковырять?!
- Я давала не ковырять, я давала смотреть, а они сейчас же ковырять. Тот, чтоб ему не жить, колупнет, другой колупнет... Прямо замучилась лаять на них, на проклятых. Только от одного отгавкаешься, на другого гавкать начнешь. Это не такая торговля, не магазинная, в кресле сидеть и за ручку кассу вертеть, это толчковая торговля, зубами у людей из глотки деньги выдирать!
Афанасий шумно вздохнул и с выражением безнадежности помотал головой. Он выглядел опустошенным, смятым.
- Что же теперь будем делать, отец? - задал ему Данила страшный вопрос.
- Надо еще дня два-три вырабатывать плоские, - перемогая себя ответил Афанасий, в то время, как в его глазах стояла тьма полного неведения. Может, покупатель еще одумается, убедится, поймет. В торговле так: надо сперва приучить покупателя к своему товару, а потом уже брать с него барыш.
- А не ошибемся ли мы опять, отец?
- А что же делать? Сразу отказаться от плоских тоже нельзя. Столько бы сделано новых приспособлениев разных, столько порчи, изъяну...
И они еще в течение трех следующих дней выпускали на рынок плоские зажигалки. И результат получался каждый раз один и тот же: энергии затрачивали они все больше, а выручки приносила Марья все меньше. Обоим мастеровым сделалось так страшно, как еще никогда не было. Казалось, они навсегда потеряли что-то дорогое для них. А на пятый день они со странной горячностью бросились делать прежние зажигалки, из трубок, цилиндрические.
- Слава богу! - вздохнула с облегчением Марья, когда узнала об этом решении мужчин. - Одумались! Хотели быть хитрей людей!
Но за эти пять дней на рынке произошел какой-то непонятный для них сдвиг в ценах, и цилиндрические зажигалки почему-то пришлось продавать еще дешевле плоских.
- Сбились с цен! - почти плача от досады, объясняла это Марья. - Не надо было отрываться от цен! Видите, что вы наделали?
И жить стало еще труднее; сидели на одном хлебе; голодали. И лица у всех с каждым днем вытягивались все более.
- Если так будем питаться... - начал было Данила и не докончил жуткой фразы, с суровым лицом озираясь на всех за обедом, с отвращением разминая ложкой в тарелке ржаные сухари в кипятке.
Данилу, самого здорового и самого упитанного, голод разил быстрее всех. За несколько тяжелых дней лицо его осунулось, румянец пожелтел, в расширенных глазах все время стоял нескрываемый испуг перед завтрашним днем.
- Видишь, отец, - продолжал он, немного помолчав и проглотив ложку мятых сухарей, пахнущих мышами. - Мы отказались от завода, отказались от людей, захотели прожить сами. "Сами себе хозяева". И что же получилось? Мы пропадаем с голода, а кругом нас, вместо помощи нам, раздается шипенье: "смотрите, какие деньги огребают Афанасий с Данькой на зажигалках! Смотрите, как они богатеют! Смотрите, как они копят деньги, отказывают себе во всем! Смотрите, как они даже сохнут от жадности к наживе!"
- Пусть будут прокляты те люди, которые про нас так говорят! - четким, дрожащим от возмущения голосом произнес Афанасий в пространство, как будто с тем, чтобы те люди его услышали.
И в его усталом и вместе гневном лице было что-то пророческое.
- И если бы только чужие про нас так говорили, - затараторила злым бабьим голосом Марья, - а то и свои близкие! Своя родня нам завидует, и все желают нам зла!
- А на заводе... - воспользовался случаем Данила.
- Стой! - резко закричал на него отец и показал ему ложкой на мастерскую. - Наш завод здесь! Куда же мы денем все это обзаведение? На толчек снесем?
- А что же мы кушать будем? - истерически взвизгнул Данила и в свою очередь поднял ложку лопастью вверх. - Ведь день ото дня мы слабеем!
- Кушать? - грозно переспросил отец, опустил лицо в стол, подумал, потом встал и пошел во вторую комнату, принадлежавшую женщинам. - Кушать? - повторил он на-ходу зло и загадочно. - Кушать? - послышался уже из другой комнаты его голос, пропитанный как бы дьявольским смехом.
Марья вскинула громадный, белый косой глаз вверх, всем своим нутром вслушалась в сторону своей комнаты, потом, как обожженная, вскочила с места и с воем ринулась туда.
IX.
Из второй комнаты пробивался спиной в дверь Афанасий и тащил за собой, крепко держа за концы в обеих руках, совсем новую, еще глянцевитую скатерть, ярко-желтую, как яичный желток. В противоположный конец скатерти впилась всем своим существом Марья, она волочилась по земле, билась, как подстреленная птица, и, что было силы, голосила. Войдя в большую комнату, Афанасий сжал губы, рванул скатерть на себя и быстро закружился вместе с нею на месте. Марья, приросшая к другому концу скатерти, поднялась на воздух и плавно полетела вокруг Афанасия, точно катаясь на гигантских шагах. Утомившись, Афанасий проскрежетал зубами и с остервенением хватил скатерть и Марью о землю. Марья брякнулась об пол, перевернулась два-три раза, но скатерть не выпускала.