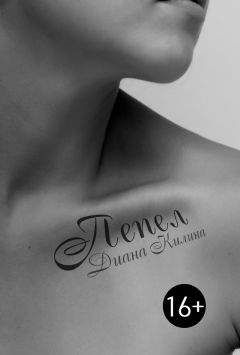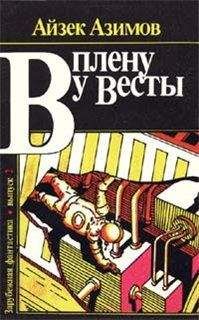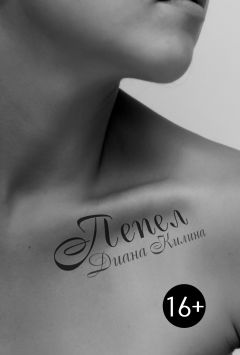Джон Бранер - «Если», 1992 № 03
Да и смотреть-то в сущности было не на что — невысокий, тихий, с оттопыренными ушами и большим носом… В колледже его прозвали Мышкой… Нет, сам виноват. Человеку, часто выезжающему в экспедиции, вообще противопоказано жениться. Не даром среди работающих в поле — антропологов, палеонтологов и прочих — такой уровень разводов…
— Высадите меня, пожалуйста, у Пантеона, прогуляюсь немного. Да и до гостиницы рукой подать.
— Хорошо, доктор. Но боюсь, как бы вы не промокли — будет дождь.
— Ничего, у меня при себе плащ с водоотталкивающей пропиткой.
Танкреди выразительно пожал плечами и утопил педаль газа; машина рванула вперед. У Пантеона Мартин вышел, а профессор, размахивая обеими руками, умчался с криком:
— Так значит, завтра в восемь! Жду!
Несколько минут Пэдуэй рассматривал знаменитое здание. Коринфский фасад на кирпичной ротонде — что тут красивого? Разумеется, если учесть, когда все это строилось, нужно отдать должное инженерному искусству, однако…
Его сбил с мысли (хорошо, что не с ног!) невесть откуда выскочивший мотоциклист в военной форме, и Пэдуэй неспеша направился к кучке праздношатающихся итальянцев у портика. А все-таки хорошая страна! Главное, по сравнению с окружающими он здесь выглядит высоким…
Вдали загромыхало, упали первые капли. Пэдуэй ускорил шаг. Плащ плащом, но было жаль новую шляпу. Двенадцать тысяч лир!
Ослепительная молния расколола небо над площадью пополам. Следом обрушился чудовищный удар грома, и тут же из под ног ушел асфальт. Мартин, ослепленный вспышкой, будто завис в тумане. Потом что-то ударило в подошвы с такой силой, что он едва не упал.
— О ч-черт!
Перед глазами наконец прояснилось. Дождь хлестал вовсю, и Пэдуэй, выбравшись из какой-то ямы, побежал под портик Пантеона. Стояла такая темень, что не мешало бы уже включить освещение. Однако фонари не горели.
Пэдуэй с удивлением отметил, что красный кирпич ротонды местами покрыт мраморными плитами. Не иначе как результат тех реставрационных работ, на которые сетовал Танкреди.
Безразличным взглядом Пэдуэй скользнул по фигуре случайного прохожего. Потом глаза его округлились: на мужчине вместо плаща и брюк была грязно-белая шерстяная тога.
Странно. Впрочем, если человеку хочется носить тогу, это его личное дело.
Мартин повернулся…
Под портик, укрываясь от дождя, забежало довольно много людей — все до единого в тогах, некоторые еще и в накидках. Кое-кто без особого любопытства поглядывал на Пэдуэя.
Когда через несколько минут дождь утих и небо очистилось, Пэдуэй впервые испытал настоящий страх. Дело было не только в тогах. Сам по себе этот факт, каким бы странным он ни казался, вполне мог иметь разумное объяснение. Но подобных фактов было такое множество, что все сразу они не укладывались в сознании.
Вместо асфальтовой мостовой — грубо отесанные каменные плиты. Площадь по-прежнему окружали дома — однако совсем другие. А здания Сената и министерства связи — отнюдь не маленькие строения — попросту исчезли.
Изменились и городские шумы. Вдруг смолкли громкоголосые клаксоны такси. Такси вообще не было. Зато медленно и со скрипом протащились по улице Минервы две повозки.
Пэдуэй принюхался. Чесночно-бензиновый букет современного Рима уступил место богатейшей симфонии запахов деревни, где главная — и наиболее благородная — партия принадлежала, безусловно, лошади. В воздухе чувствовался и аромат благовоний, плывущий из Пантеона.
Появилось солнце. Пэдуэй вышел под его лучи и задрал голову вверх. Портик по-прежнему венчала надпись, приписывающая величественное строение Агриппе. Украдкой оглянувшись по сторонам, Мартин шагнул к ближайшей колонне и ударил по ней кулаком.
И скривился от боли, содрав в кровь кожу с суставов.
«Я не сплю. Для сна все это слишком реально и осязаемо. А если я не сплю, значит я сошел с ума…» Но исходя из такого предположения, очень трудно выработать логичную систему действий.
А эта теория, которую излагал Танкреди… Так что же, он на самом деле провалился во времени, или произошло нечто такое, что заставило его вообразить будто он провалился во времени? Идея провала во времени Пэдуэю активно не нравилась. От нее попахивало метафизикой, а Мартин относил себя к убежденным эмпирикам.
Оставалась другая возможность — амнезия. Предположим, удар молнии на какое-то время отшиб ему память… затем что-то вновь ее пробудило. Мало ли что могло произойти, прежде чем он очутился в этой копии древнего Рима! Может, это съемки фильма? Или, к примеру, Бенито Муссолини, тайно мнивший себя воплощением Юлия Цезаря, велел своему народу жить в классическом древнеримском стиле…
Пэдуэй прислушался к болтовне двух зевак. Сам он изъяснялся по-итальянски довольно сносно, но не мог понять даже смысла их разговора, хотя звучание языка казалось знакомым. Почему-то вспомнилась латынь — и тут речь зевак стала более понятной. Пэдуэй пришел к выводу, что они используют позднюю форму вульгарной латыни; скорее язык Данте, чем язык Цицерона. Отчаянно напрягая память, он даже мог попробовать сам: Omnia Gallia e devisa en parte trei, quato una encolont Belge, alia…[2]
Зеваки заметили, что их подслушивают, нахмурились и, замолчав, отошли в сторону.
Да, гипотеза провала в памяти, пусть и непривлекательная, все же сулила меньше осложнений, чем теория провала во времени.
А если все это — плод его воображения? Может, он стоит перед Пантеоном и воображает, что окружающие носят тоги и говорят на языке середины первого тысячелетия? Или лежит в больнице, пораженный ударом молнии, и воображает, будто стоит перед Пантеоном? В первом случае следует найти полицейского и попросить отвести себя к врачу. Во втором случае этого делать уже не надо…
«Лучше перестраховаться, — решил Пэдуэй. — Один из прогуливающихся здесь людей в действительности наверняка полицейский… Что это я говорю — спохватился он, — «в действительности»? Пусть себе ломает голову Бертран Рассел! Как бы найти…»
Вот уже несколько минут вокруг вился нищий горбун, но Пэдуэй был глух, как столб, и несчастный уродец, отчаявшись, поплелся прочь. Теперь к Мартину обращался другой человек — мужчина, у которого на раскрытой ладони правой руки лежали четки с крестиком. Большим и указательным пальцами правой руки он сжимал застежку четок и то поднимал свою правую руку, так что четки свисали во всю длину, то опускал их снова на левую ладонь, при этом не переставая что-то говорить.
Каким бы диким не казалось все происходящее, теперь Пэдуэй, по крайней мере, убедился, что он все еще в Италии.