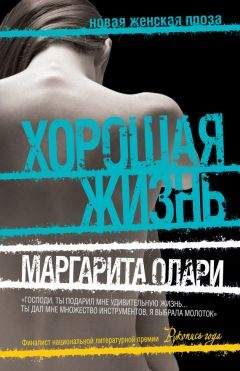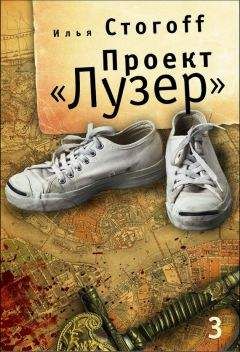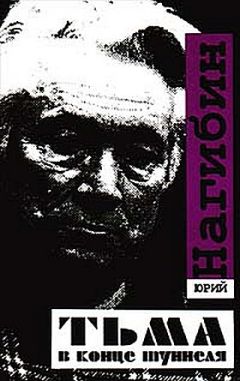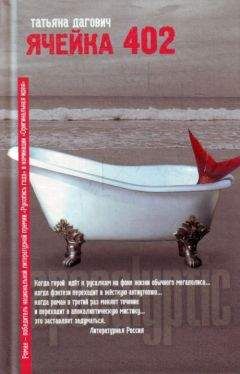Пол Андерсон - Странник. Зима Мира
— Эрулан.
— Никогда о нем не слышал.
— Ничего удивительного. Когда мы прибудем, вы останетесь на борту.
— Причина?
— Это незаконно, — коротко ответил Йоахим. — Давайте лучше подумаем о вас. С командой вы поладите, если только не будете чересчур навязчивым. И я бы посоветовал переодеться в корабельную одежду. Менее подозрительно.
— Как это сделать? — Тревильен не стал настаивать на вопросе об Эрулане.
— Ну-ка… — Йоахим открыл ящик стола, вытащил оттуда бумажник и бросил его Тревильену. — Держи. Симпатичная толстенькая пачка денег. Я тут подобрал кое-какую одежду твоего размера. Пара комбинезонов, шорты, ботинки и тому подобное. Продам все оптом за двадцать кредиток.
— Двадцать кредиток! Они стоят от силы пять.
— Так и быть, я отдам по себестоимости, уступлю за ту цену, за которую брал сам. Пятнадцать.
— Если они обошлись вам в семь, я готов съесть их…
Они немного поторговались и наконец сошлись на двенадцати кредитках — всего лишь сто процентов прибыли. Потом Йоахим предложил координатору вторую спальню за слегка завышенную цену и полный пансион за дополнительную оплату. Пока довольный капитан пересчитывал деньги, Тревильен переоделся в шорты.
— Можете погулять вокруг, посмотреть корабль, — предложил капитан. — Никки живет в каюте номер 274.
— Вы что, знаете обо всем, что происходит?
— Почти, — Йоахим прищелкнул языком. — Никки — славная девушка, но не такая, как утверждают слухи, так что не советую распускать руки.
Тревильен неторопливо шагал по коридорам, сунув руки в карманы, крутя смуглой головой из стороны в сторону. Номады с любопытством оглядывались на него, но никто не решался заговорить, ограничиваясь приветственным кивком. Очевидно, если капитан не возражал против него, то и экипаж — тоже. Тревильен шел по лабиринту расписных стен, резных дверей и деревянных панелей, пока не наткнулся на дверь, которую искал. Номер 274.
Косяк двери был резным, в форме дерева, обвитого лозой, а сама дверь распахнута настежь. Изнутри донесся голос Шона:
— Заходи, корди.
Тревильен вошел. Коридор, четыре двери: две — в комнаты по обе стороны коридора и две чуть подальше — кухня и туалет, а также еще один выход из блока. Одна комната была отдана микрокнигам, музыкальному комплексу, лентам с записями, а стены украшены очень неплохой росписью; во второй разместилась тесная мастерская. Шон наводил глянец на свой скафандр, у его ног примостилась лоринианка, та самая, о которой говорила Никки. Она и в самом деле оказалась самым прелестным созданием, прелестнее которого он еще не видел. А сама Никки склонилась над глиняной вазой. Она подняла голову и улыбнулась:
— Ты была права, Ло.
— Она всегда права, — заметил Шон. — Она знает такие вещи.
— А что она знала в этот раз? — поинтересовался Тревильен.
Шон, кажется, не сердился на него и вообще был в хорошем настроении, и Никки казалась такой же дружелюбной, как и прежде. Но Илалоа… трудно сказать.
— Что идешь именно ты, — объяснил Шон. — Она почувствовала тебя, верно, Ло?
И он взъерошил тонкие серебристые волосы.
— Телепатия? — Тревильен произнес эти слова мгновенно напрягшись, хотя внешне старался выглядеть непринужденно.
Девушка заговорила, ее голос был певучим и таким низким, что он еле различал слова:
— Нет, я не могу… не по силам слышать слова души, которая прячется в темноте. Вы слишком одиноки, вы все прячетесь друг от друга и от знания. Я могу понимать мысли маленьких… мысли зверьков. Но ваши человеческие — нет.
— Тогда как… Конечно. — Тревильен кивнул. — Вы улавливаете излучение, а у каждого из нас характерный сигнал.
— Да, так, — мрачно кивнула она. Теперь взгляд лоринианки стал озабоченным. — И ваши… другие… чем у меня, чем у номадов. Вы живете больше головой, чем телом, но это тело не отягощает вас тайной печалью, как людей из Стелламонта, которые не знают, что они такое. Вы знаете и примирились с этим, сильны этим… но я еще никогда не чувствовала такого одиночества, как ваше.
Она замолкла, словно испуганная собственными словами и теснее прижалась к Шону. Тревильен не без удовольствия оглядел ее. Он заметил, как по светящейся, почти прозрачной коже пробегает дрожь, заметил испуг и горе в глазах, заметил, как она стискивает колено Шона.
Ну что ж, подумал он, это ее проблема. И Шона, наверное, тоже. На мой вкус, она чересчур красива.
Тревильен присмотрелся к работе Никки. Ваза была в форме двух сражающихся драконов.
— Здорово, — усмехнулся он. — Что ты с ней будешь делать?
— Отолью в бронзе, потом продам или обменяю, — ответила она, не поднимая глаз.
Вот совершенно земная девушка, сама приземленность; она и Илалоа были на разных концах Галактики.
— Хорошо, что вы остаетесь на борту, — продолжала она. — Может быть, хорошо. Что вы собираетесь делать?
— Хочу осмотреться, привыкнуть. Знаете, я изучал искусство номадов и считаю его новым словом. Могу предположить, что ваша литература тоже непохожа на нашу.
— Литература?.. Разве что баллады.
— И этого уже достаточно. Вспомните, насколько американская народная музыка отличалась от европейской… — тут он поймал ее озадаченный взгляд. — Я с удовольствием послушаю, если представится такая возможность.
— Да я хоть сейчас могу представить, — пожал плечами Шон, откладывая скафандр в сторону. Он снял со стены инструменты, пробежал пальцами по струнам. А затем запел балладу на вечную тему о безответной любви…
Я остаюсь, ты уходи,
Прощай, любимый мой.
Тебя ждут звездные пути,
Ждет мрак и ветра вой.
Бродяга ветер вдаль позвал,
Под ноги лег тропой,
И нас с тобою разметал
Осеннею листвой.
И нас с тобою разлучил,
От солнца прочь унес
Туда, где тысячи светил
Моих не слышат слез…
Шон поморщился:
— Не стоило мне выбирать эту.
— В другой раз, — ответила Никки. Она обернулась к Тревильену чуть быстрее, чем полагалось бы. — Вот уж не думала, что вы интересуетесь подобными вещами.
— В моей работе важно все, — ответил Тревильен. — А искусство — часто наиболее развитая символическая часть культуры, и следовательно, ключ к ее пониманию.
— Вы что, всегда думаете о своей работе?
— Нет, не всегда, — усмехнулся он. — Время от времени приходится есть, спать.
— Наверное, даже тогда ваши мозги не останавливаются, — фыркнула она.
Тревильен промолчал. В определенном смысле это было правдой.
![Пол Андерсон - Восставшие миры. Зима мира. Сломанный меч [Авт. сборник]](/uploads/posts/books/69087/69087.jpg)