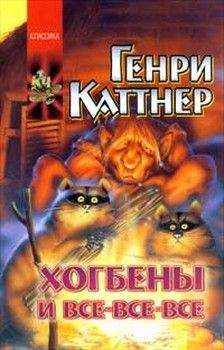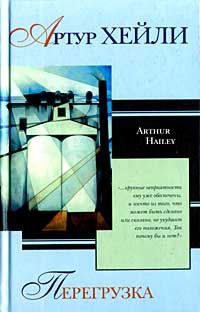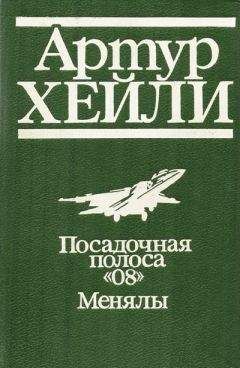Генри Каттнер - Хогбены и все-все-все (сборник)
— Оливер, — произнесла она очень тихо, — пообещайте мне одну вещь. Обещайте не выходить сегодня из дому.
— Я уже обещал, — ответил он с ноткой раздражения в голосе.
— Я знаю. Но сегодня — сегодня у меня есть особая причина просить вас посидеть дома.
На мгновение она опустила голову ему на плечо, и он, сам того не желая, невольно смягчился. С того памятного вечера, когда она все ему рассказала, они ни разу не оставались вдвоем. Он думал, что так и не удастся побыть с ней наедине, разве только урывками, на несколько минут. Но он понимал, что никогда не забудет двух странных вечеров, проведенных с ней. Теперь он знал и другое — она слабовольна и вдобавок легкомысленна. Но она оставалась все той же Клеф, которую он держал в объятиях. И это, пожалуй, навсегда врезалось ему в память.
— Вас могут… ранить, если вы сегодня отправитесь в город, — продолжала она приглушенным голосом. — Я знаю, что в конечном счете это не имеет значения, но… Помните, Оливер, вы обещали.
Прежде чем с языка его успел сорваться бесполезный вопрос, она исчезла и дверь закрылась за ней.
Гости начали собираться за несколько минут до полуночи. С верхней площадки Оливеру было видно, как они входят по двое и по трое, и он поразился, сколько этих пришельцев из будущего стеклось сюда за последнюю неделю. Теперь он абсолютно отчетливо понял, чем они отличаются от людей его времени. В первую очередь бросалось в глаза совершенство их внешнего облика — изящество одежд и причесок, изысканные манеры и идеальная постановка голоса. Но так как все они вели праздную жизнь и на свой лад гнались за острыми ощущениями, то ухо улавливало в их голосах неприятные, визгливые нотки, особенно когда они говорили все разом. Внешний лоск не мог скрыть капризной раздражительности и привычки потакать собственным прихотям. А сегодня над всем этим еще царило возбуждение.
К часу ночи все собрались в парадных комнатах. После двенадцати чашки, по всей видимости сами собой, задымились и по комнатам расползся едва уловимый тонкий аромат, который смешивался с запахом чая и, попадая в легкие, вызывал что-то вроде слабого опьянения.
От этого запаха Оливеру стало легко и захотелось спать. Он твердо решил дождаться, пока не уйдет последний гость, но, видимо, незаметно задремал у себя в комнате, у окна, с нераскрытой книжкой на коленях.
Вот почему, когда это произошло, он несколько минут никак не мог понять, спит он или бодрствует.
Страшный, невероятной силы удар был сильнее, чем грохот. Оливер в полусне почувствовал, как весь дом заходил под ним, почувствовал (именно почувствовал, а не услышал), как бревна, словно переломанные кости, со скрежетом трутся друг о друга. Когда он стряхнул с себя остатки сна, оказалось, что он лежит на полу среди осколков оконного стекла.
Он не знал, сколько времени так провалялся. То ли весь мир был еще оглушен чудовищным грохотом, то ли у него заложило уши, но только вокруг стояла абсолютная тишина.
Первые звуки просочились к нему в коридоре, на полпути к парадным комнатам. Сперва это было нечто глухое и неописуемое, и сквозь него резко пробивались бесчисленные вопли, отдаленные на расстоянии. Барабанные перепонки ломило от чудовищного удара звуковой волны, такой сильной, что слух не воспринимал ее. Но глухота понемногу отпускала и, не успев еще ничего увидеть, он услышал первые голоса пораженного бедствием города.
Дверь в комнату Клеф поддалась с трудом. Дом немного осел от… взрыва? — и дверную раму перекосило. Справившись наконец с дверью, он застыл на пороге, бестолково моргая: в комнате было темно — лампы потушены, но со всех сторон доносился напряженный шепот.
Перед широкими окнами, выходившими на город, полукругом стояли стулья — так, чтобы всем было видно. В воздухе колыхался дурман опьянения. Снаружи в окна проникало достаточно света, и Оливер заметил, что несколько зрителей все еще зажимают уши. Впрочем, все сидели, подавшись вперед с видом живейшего любопытства.
Как во сне, город с невыносимой ясностью проступил перед ним сквозь марево за окнами. Он прекрасно знал, что здания напротив загораживают вид, — и в то же время собственными глазами видел весь город, который расстилался бескрайней панорамой от окон до самого горизонта. Посредине, там, где должны были стоять дома, не было ничего.
На горизонте вздымалась сплошная стена пламени, окрашивая низкие облака в малиновый цвет. Небо отбрасывало это огненное сияние обратно на город, и оно высвечивало бесконечные кварталы расплющенных домов — кое-где языки пламени уже лизали стены, — а дальше начиналась бесформенная груда того, что несколько минут назад тоже было домами, а теперь превратилось в ничто.
Город заговорил. Рев пламени заглушал все остальные звуки, но сквозь него, как рокот дальнего прибоя, прорывались голоса, отрывистые крики сплетались в повторяющийся узор. Вопли сирен прошивали все звуки волнистой нитью, связывая их в чудовищную симфонию, отмеченную своеобразной, жуткой, нечеловеческой красотой.
Оливер отказывался верить: в его оглушенном сознании на миг всплыло воспоминание о той, другой симфонии, что Клеф проиграла однажды в его доме, о другой катастрофе, воплотившейся в музыку, движения, формы.
Он хрипло позвал:
— Клеф…
Живая картина распалась. Все головы повернулись к Оливеру, и он заметил, что чужестранцы внимательно его разглядывают. Некоторые — таких было мало — казались смущенными и избегали его взгляда, но большинство, напротив, пытались поймать выражение его глаз с жадным, жестоким любопытством толпы на месте уличной катастрофы. Все эти люди — до одного — сошлись здесь заранее, чтобы полюбоваться на грандиозное бедствие, будто его подготовили специально к их приезду.
Клеф встала, пошатываясь, и едва не упала, наступив на подол своего бархатного вечернего платья. Она поставила чашку и нетвердой походкой направилась к двери.
— Оливер… Оливер… — повторяла она нежно и неуверенно.
Оливер понял: она была все равно что пьяна. Катастрофа до такой степени взвинтила ее, что она вряд ли отдавала себе отчет в своих действиях.
Оливер услышал, как его голос, ставший каким-то тонким и совершенно чужим, произнес:
— Что… Что это было, Клеф? Что случилось? Что…
Но слово «случилось» так не соответствовало чудовищной панораме за окнами, что он с трудом удержался от истерического смешка и невысказанный вопрос повис в воздухе. Он смолк, пытаясь унять бившую его дрожь.
Стараясь удержать равновесие, Клеф нагнулась и взяла дымящуюся чашку. Она подошла к нему, покачиваясь, и протянула напиток — свою панацею от всех зол.