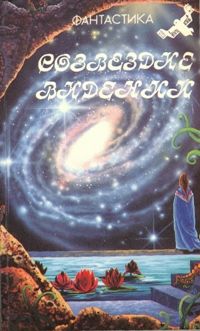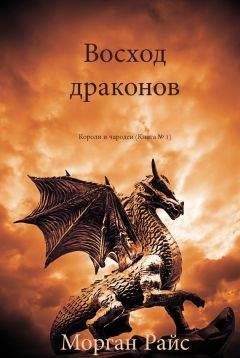Елена Грушко - Созвездие Видений
«Гриша, ты что? Ты куда? Ну, уймись. Это ж я. Я, Иван. Ну, образумился? Пойдем. Поднимайся, пойдем».
Иван догнал его уже в сенцах, перехватил поперек й повалил на пол. И держал так, прижав к холодному полу, до тех пор, пока тот не пришел в себя.
«Ну, ничего, ничего. Пойдем. Это контузия тебя окликает. Пойдем в хату».
Ночь погрузилась в дремучую глубину и, казалось, навсегда застыла там в неподвижности.
Но. это только казалось. Это действительно только казалось. Как все и вся в том опрокинутом, взбаламученном мире, давно когда-то названном Пречистым Полем. Как одним — что они снова живы, что они пришли, что они опять дома, что их жизнью и смертью в той минувшей роковой жизни оправдан теперь каждый час, каждый шаг, каждое их слово. А другим — что о ни еще живут, еще помня т, еще любят, еще хранят…
Впрочем, возможно, я здесь и не прав. Если мой вымысел уже в силах вырвать из рук перо в тот момент, когда я пытаюсь его оспорить, когда я пытаюсь оспорить правомерность самого его существования. И тут мы имеем дело не с агрессивностью, а со своего рода праведным гневом. Так бы надо поступать с детьми, которые не желают ни слушать старых сказок, ни читать их, когда уже научатся читать, по той простой и в то же время совершенно чудовищной причине, что знают, что все, мол, «в этих сказках» неправда, вымысел. После такого довода остается лишь надежда — вот подрастут наши маленькие рационалисты и поймут, что нет, не в сказках ложь. От недоверия же к правде сказок всего полшага до нигилизма. Тогда только и останется бедному дитяти закрыться от мира наушниками-шарами и с упоением слушать металлический рок. В том жутковатом нагромождении звуков сказки конечно же нет, там все — отрицание сказки. Не дерзкое, каким его иные пытаются представить, а — агрессивное.
Эх, да не ворчу я, не ворчу! Не ворчу. Бог с вами. Я просто ищу слово. Я искал слово, а нашел сравнение. Не совеем то, что нужно. Но сравнение, возможно, довольно сносное: я, как тот несчастный маленький нигилист, иронично относящийся к сказкам и сказам своих предков, усомнился в достоверности своего вымысла. Но тут же опамятовался и устыдился своего сомнения. Откуда оно, подобное, вообще во мне? Просто ли привычка все необыкновенное поверять, проверять? Подвергать, так сказать, сомнению?
Э, брат, что-то тут не так. Видно, неладно что-то с нашей памятью, Эка смелость, правда что, над сказками потешаться! Над памятью. Над жалостью. Над верой. Надеждой. Любовью. Высмеять можно все. Надо всем можно потешаться. Да не надругаться бы. Ведь тем покуда и живем, что верим, надеемся да любим. Да помним. В сказке-то, оказывается, больше памяти, нежели вымысла. Куда как больше. Признаться, я только. теперь об этом догадался. И уж раз забрели сюда, то чего же больше в моей сказке, вымысла или памяти?
Монтень однажды сказал, что память располагает более вместительной кладовой, чем вымысел. С этим невозможно спорить.
А ночь между тем длилась так, как длилась бы и без них, так нежданно пришедших в Пречистое Поле и перевернувших здесь все вверх дном одним своим появлением. Все в ней, в этой ночи, свершалось правильно и мудро, по извечным и непреложным законам природы.
Давно уже сменился с поста Кузьма Колядёнков и прилег под ракитой, распоясав шинель и укрывшись ею, как делал всегда и там, на фронте, когда выпадала минута покоя и командиры приказывали отдыхать. Кузьма лежал и думал о Лебеде, о разговоре с Иваном Филатенковым. «Вот бы и Григория Михалищина ещё уговорить», — вздохнул Кузьма.
На посту его сменил Константин Асеенков. Должен был сменить Назар, его отец, но встал Константин. Видно, пожалел отца, не стал будить. И теперь его высокая сутуловатая фигура на фоне холма Всех Мучеников — как горбатый столб.
Спали солдаты вповалку. Кто как: Кто так же, как и предусмотрительный Кузьма Колядёнков, накрывшись шинелью, кто плащ-палаткой, а кто и чистым звездным небом да туманом, густо наплывавшим с пруда: Роса лежала на бледных лицах спящих, на окрестных травах, на листьях деревьев, неподвижных, как статуи. И храп стоял над селом Пречистое Поле воистину богатырский. Так спят только после трудной работы иди дальней тяжелой дороги. И было у них и то, и другое.
Кузьма прикрыл глаза, но спать не спал, не хотел, не мог. А глаза сами от тяжести век смыкались время от времени. Нелегкий день выдался, что и говорить, редкий день, вот и затворялись глаза. «Так там же и веревки понадобятся, — озабоченно подумал Кузьма Колядёнков, — много веревок. Так, без снасти, его не возьмешь. Там его за столько-то лет ялом да болотиной будь-будь замуровало». Кузьма вздохнул неспокойно и перевернулся на другой бок. Теперь его душу, как заноза, жгло нетерпение. «Придут ли? — думал он. — Григорий, может, и слухать не станет. Не до того ему нынче. Надо ж так случиться, господи боже ты мой. А и послухает Григорий Ивана, где мы в такую пору веревок столько раздобудем? Коноплю-то, гляжу, нынче не сеют, пеньку не мнут. Э-э-хо-хо, хо-хо, грехи наши… А надо бы, ох как надо Лебедю голос его вернуть. Вернуть да на небеса поднять. Разве ж место Лебедю в болоте? Не место ему там. Нет, не место. С какой стороны ни подумай — не место. Господи, а сколько ж их, таких-то болот, по всей России-матушке! подумал вдруг сокрушенно Кузьма. — Эх, а и правда, сколько ж их, витязей, по таким-то болотам лежит! Сирот. Безголосых».
Часовой, все время медленно расхаживавший меж спящими, остановился и распрямил сутулую спину. Кузьма тоже насторожился, привстал на локте и увидел, как тот медленно потянул с плеча ремень винтовки. Штык к винтовке был примкнут, и она казалась длинной, как колодезная шогла.
— Стой! Кто идет? — послышался несердитый окрик младшего Асеенкова.
И тут же из темноты ракит ему ответили испуганно и разноголосо:
— Костик? Это ты, Костик? Ты ж пусти нас, Костик, на наших мужиков поглядеть.
«Бабы, никак, пришли», — догадался Кузьма Колядёнков, и губы у Него сразу высохли, и он все никак не мог даже облизать их — одеревенели, не слушались, язык, как чужой, цеплялся, прилипал. Он задержал дыхание и стал прислушиваться, хотел расслышать в тех голосах голос своей Анны.
— Пусти, Костик. Экой ты… Мы хоть одним глазком взглянем на них. Взглянем только. Взглянем и пойдем по дворам.
— Не положено солдата тревожить. У солдата и так сон короткий.
— Да как же так, Костик, сынок, неужто и вправду не пустишь? Ты ж не чужой нам, Костик, — уговаривали вдовы часового.
— Я ж сказал — не положено.