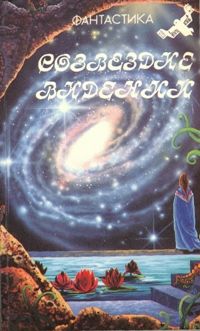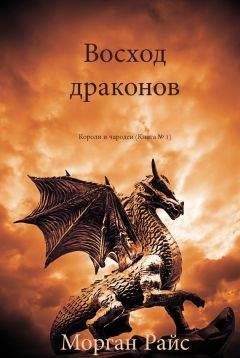Елена Грушко - Созвездие Видений
в которой угадывались покатые бугры ковриг, и уполномоченный ухмыльнулся и взялся за вожжи.
А увечного Лебедя мужики, не глядя друг другу в глаза, взвалили кое-как на телегу, запряженную парой, и повезли туда же, на станцию Новоалександровскую. Так приказал уполномоченный: стране позарез был нужен цветной металл. Но дорога до станции в те годы была такая, что не приведи господь, и на Каменке, объезжая болото, телега провалилась колесом в выбоину, колесо не выдержало, посыпалось; телега стала оседать одной стороной, колокол, дрожа, пополз с полка, опрокинулся и чуть не до смерти придавил одного из возчиков. Когда дело приняло такой оборот; мужики бросили колокол, и Лебедь медленно, нехотя ушел в трясину. На другой день, уже по приказу председателя сельсовета, всполошенного случившимся, на Каменку согнали всех колхозных лошадей, пытались вызволить колокол из дрегвы, но так ничего и не смогли сделать. Так вот и обрел Лебедь новое свое пристанище… И но ею пору лежал он на Каменском болоте обочь нынешнего большака, и помнили о нем только старые жители, потому что как могут помнить молодые то, чего не знали никогда, не видели, не слышали? То, чего не знал, не вспомнишь. «Лебедь?» — переспросил Иван Филатенков. «Он самый, — ответил Кузьма. — На Каменке в болоте лежит. Иван Прокопчин знает, где точно. Он помнит. Он же с мужиками тогда его и утопил». — «Достать-то Лебедя можно, только он же, если помнишь, без языка. Язык у него оторвало, когда с колокольни сбрасывали. Помнишь?» «Помню. Как же не помнить. Все помню. — И вздохнувши: — Не надо было нашим мужикам тогда уполномоченного слухать. А то только и делали, что уполномоченным угождали. Забоялись. А чего бояться было? Хлеб все одно забрали, подчистую вымели. Все равно голодали. Их, уполномоченных, вон сколько было, а земля у нас одна. И совесть одна. И вера тоже одна. Куда ни гни, а — одна. Я вот теперь так думаю, что из антихристовой стаи был тот уполномоченный». — «Того бы не было, другой бы приехал. Может, хуже еще. Они ж тоже люди подневольные. Приказ исполнял. Партийный долг и все такое:..» — «Приказ… Не было у него такого воровского приказа, чтобы колокол с колокольни сымать. Он за другим приезжал. За хлебом. Все они тогда за одним шныряли. Вот и озлился: хлеба нет, ничего нет, за такую работу, известно, начальство не похвалит, а с паршивой овцы, как говорят, хоть шерсти клок. Так что не говори, Иван. Не заступайся. Приказы тоже по-разному исполняли. Ты его, уполномоченного того, помнишь?» «Да не особенно. — солгал зачем-то Иван. — Их ведь тогда много было. Только и ездили. Помню, что сапоги у него добрые были. Высокие такие, узкие, и немножечко так гармошкой вниз сдвинуты. С форсом носил. Хорошие сапоги. Командирские». «Что сапоги… Я его всего на всю жизнь запомнил. У него не только что сапоги, а и душа, видать, книзу сдвинутая была. Это точно ты говоришь, много их тогда, сук-киных сынов, по дорогам нашим ездило. Один уедет, другой, глядишь, вот он, жеребца правит. От иных копыт только большак стонал». — «Да они, Кузьма, может, и теперь по нашим, пречистопольским-то, дорогам шныряют. Рыскают, нюхают, где бы да чего бы еще из народа вытрясти можно. Поговорил я тут с мужиками… Ничего не изменилось. Только если хуже стало. Они все по той части, сколько надоено да сколько намолочено. Во построили счастливую жизнь, мать твою! Завоевали…» — «Ну, Иван, ты так все же не говори». — «А что ж мне говорить? Я что вижу, то и говорю».
После этих слов Ивана, ударявших, наверное, по самому больному, оба долго молчали.
«А на фронте я их, таких, в чистеньких сапожках, тоже будь-будь повидал. Как в обороне сидим, вот они, мать твою, агитировать нас хорошо воевать пришли. Чтобы, значит, мы не забыли, за что воюем. Чтобы Родину лучше любили. — Иван Нервно засмеялся, и долго его еще трясло и подергивало тем нервным смешком, будто застарелым кашлем. — Они нам, крестьянам необразованным, так, мол, и так, штыком его и прикладом… А когда в атаку идти, их будто корова языком из наших окопов вылизывает. Они — в землянки, на энпэ, а мы с нашими мальчишами-лейтенантами вперед, за Сталина, за Родину — под пулеметы». — «А мне, Иван, тот нечестивец, что Лебедя сорвал, так и приснится другой раз. Что ты, Иван, ни Говори, а он мне хуже врага, противу какого мы воевали да жизни свои положили. Он мне своими этими сапогами по самой, видать, душе прошелся». — «Ладно, Кузьма, ну их к… Ты во сколько сменяешься?» «В полночь», — ответил Кузьма. «Пойду як Григорию. Скажу ему об этом. Так что, возможно, разбудим». — «Ежели за Лебедем, то я, Ваня, и ложиться не стану. Ежели надумаете за Лебедем, то я вот тут-то и дожидаться вас буду». — «Я что тебя еще спросить хотел, Кузьма. Днем был на кладбище. Хотел Троху наведать… Звонаря. Не нашел». — «Так его ж забрали. Перед войной: Ты тогда, видать, действительную служил. Вместе с батюшкой и забрали». — «Кого? Троху? Он же пальцем никого… Он же — как ребенок был…» — «Забрали. И батюшку, и его. Как врагов народа». — «А я могилку искал. Среди, живых, гляжу, нет… Как врагов народа… Да, это похуже, чем без вести…»
И в эту ночь Григорий не спал.
Тело Павлы, покрытое белой матерней, убранное такой же белой кисеей, пахнущей нафталином и полынью, лежалой длинном узком гробу на столе. Рядом, на другом столе, горела свеча все в той же глиняной плошке с отколотым краем.
Григорий покосился на нее и подумал: вот и пережила ты своих хозяев. И меня, и Павлу. Всех пережила. Убог твой век, что и говорить, а наш, человеческий, и того скуднее.
Иногда, привалившись спиной к стене и ощущая прохладу и неровности бревен, он уставал от мысли о такой великой утрате, нелепо постигшей его в эти единственные дни, задремывал, и тогда ему всякий раз грезилось одно и то же: будто бегут они, Иван, другие, кто уцелел из их роты после непрерывных боев в окружении, через лощину к леску, а по ним так и бьют, так и кладут снаряды то слева, то справа, то в самую гущу откуда-то с фланга. И так, гад, ошалело и грамотно бьет, что ни спрятаться, ни окопаться, один выход — бежать и бежать к лесу. И было это совсем не похоже на сон. «И вправду, — думал он, просыпаясь, — какой же это сон? Это, брат ты мой, — успокаивал он себя, — и не сон вовсе. Так было. Все так и было». Он закрывал глаза — и опять повторялось все сначала. И раз так, пробегая по лощине с винтовкой наперевес, он услыхал, как кто-то вскрикнул. Услыхал где-то совсем рядом, справа вроде, где, время от времени оборачиваясь, он всегда видел бледное, в грязных потеках лицо Ивана, и тут же подумал, что тот, видимо, ранен, что надо поднять его. Но в кромешном дыму ничего нельзя было разобрать. Он вначале присел, потом, подобрав под мышку винтовку, опустился на колени и начал торопливо, на ощупь, искать вокруг. Он искал Ивана, звал его, изо всех сил раздирая криком рот: «Иван! Ива-а-ан! Ты живой, Иван? Где ты, Иван?» Но тут его самого подхватили под руки и поволокли по изорванному минами и снарядами днищу лощины. Он не видел, кто его несет, куда, зачем, он только почувствовал, что винтовка выпала у него из рук и воткнулась штыком в дымящуюся землю. Она воткнулась и размашисто шатнулась тяжелым прикладом туда-сюда. А он проперся над нею, словно облако очередного разрыва, и закричал еще сильнее. Он рванулся изо всех сил и закричал, чтобы его отпустили. Он хрипел сорванной глоткой о том, что там, позади, под огнем, остался Иван, его друг и односельчанин, что и винтовка там, что без Ивана и винтовки ему нельзя, ему лучше под первую же пулю без Ивана и винтовки. И он собрал все силы, всё последнее, что еще было при нем, рванулся, вырвался и побежал назад…