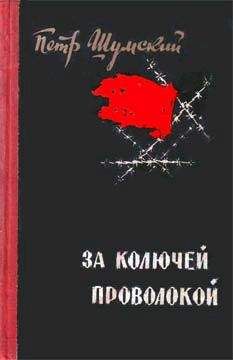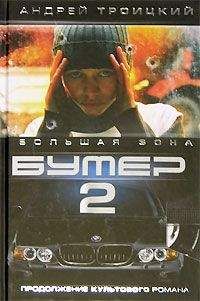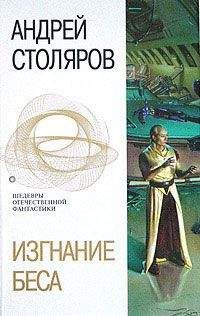Андрей Столяров - Горгона
Она чувствовала, что Менингит смотрит ей в спину. Но не оборачивалась, еще чего, пусть себе смотрит. И внезапно откуда-то появившееся у нее ощущение вседозволенности было так восхитительно, что она вместо класса, куда призывал звонок, задребезжавший в эту минуту, повернула на лестничный закуток, где в стену было вмазано мутное продолговатое зеркало, выдернула заколку из волос, стянутых в кукиш – интересно, зачем только она этот кукиш заделывает? – и потрясла головой, чтобы пряди свободно рассыпались по плечам. Вот так, сказала она. Показала язык отражению. А когда она довольная, с распущенными волосами, удивительно уверенная в себе, неторопливо вошла в класс, то по дыханию, вдруг прервавшемуся, как будто его никогда и не было, по тишине, в которой, казалось, растворились все звуки, по особому оцепенелому сосредоточению взглядов догадалась, что старая жизнь кончилась бесповоротно, теперь будет новая, совершенно иная, изумительная и непохожая на все прежнее. И, видимо, Роза Георгиевна это тоже почувствовала, потому что, уже сверкнув глазами для полагающегося строгого выговора – на урок-то Вика, тем не менее, опоздала – неожиданно осеклась, привстала из-за стола, постояла немного так, полусогнутая, и сказала растерянно: Какая-то ты сегодня, Савицкая, не такая… – вяло махнула рукой. – Садись, на место… – потерла веки, продолжила прерванные объяснения, но еще несколько раз во время урока, внезапно и как бы даже испуганно поглядывала на Вику и тогда запиналась, и не могла сразу вспомнить, о чем только что говорила.
С этого случая все пошло по другому. Серый туман, стоявший между Викой и остальными, рассеялся. Зазвенели обращенные к ней голоса, множество мелких событий заполнило пустоту буден.
Теперь Вика, приходя утром в школу, чувствовала на себе горячие взгляды мальчишек. Причем, не только из их класса, но и из двух параллельных.
– Савицкая!.. – окликали ее. – Эй, Савицкая! Сколько времени?
– Нет часов, – отвечала Вика, демонстративно поблескивая циферблатом.
– Ну ты смотри какая: без часов ходит!..
Это было приятно.
И на переменах она теперь не слонялась, как неприкаянная, – либо ее сразу же окликали: Савицкая, ты чего это там, давай сюда!.. – либо она сама без всяких комплексов вклинивалась в любую компанию – хоть к Менингиту, где все, как ненормальные, галдели и гоготали, хоть к Виталику – послушать рассуждения о современной науке. Просто подходила, ни кого ни о чем не спрашивая, и непрошибаемые ранее спины раздвигались освобождая для нее место. Попробуй, не освободи для Савицкой! За плечами ее маячил угрюмый и скорый на руку Шиз, провожавший ее упорным взглядом, куда бы она ни пошла.
Это было одно из самых неожиданных превращений. Нагловатый и резкий Шизоид теперь начал в ее присутствии ощутимо стесняться – запинаться, робеть, скрести ногтями щетинку на подбородке, а однажды, отозвав Вику в сторону и глядя мимо нее, пробурчал, краснея, видимо, от собственного великодушия: Ты, Савицкая, если что – мне скажи… Ну, если, знаешь, кто-нибудь там, из этих – чего… – и поднял кулак килограмма в четыре весом. Кто рискнет связываться с Шизоидом? Только полный кретин. И то, что Шиз теперь все время держал ее в поле зрения, не только почему-то не принижало Вику, как прежде, а, напротив, таинственным образом возвышало над остальными, подчеркивая этим угрюмым сопровождением ее некую исключительность. Она как бы обзавелась личным телохранителем.
В общем, все было просто великолепно. Тайна жизни, казавшаяся ранее темной и мрачной, вдруг озарилась сиянием, проникшим в самое сердце. Жар ее теперь явственно согревал Вику. Заиграла волшебная музыка, зажглись окна в стрельчатых дворцовых пролетах. Тополя на набережных нашептывали жизнь, похожую на чудную сказку. Город, как выяснилось, никогда ее не обманывал: в каменном загадочном пространстве его, в горбатых узких мостиках над каналами, в плоских волнах, лижущих красноватый гранит, и в самом деле рождалось некое колдовство, и, колеблемое быстрыми ветрами, преображало реальность. Обещанное здесь всегда исполнялось. Следовало только безоговорочно верить в это. И теперь Вика верила. Прибираясь как-то в ящиках письменного стола (надо же, в конце концов, ознаменовать новую жизнь генеральной уборкой), она обнаружила свою фотографию четырехмесячной давности и довольно долго, даже с некоторым испугом рассматривала вытаращившуюся оттуда уродину. Откуда такая тупая и обреченная злобноватость – хмурый взгляд исподлобья, упрямо сжатые губы? Кривоватые морщины на лбу, стянутая в какой-то твердый комок кожа на подбородке? В самом деле кикимора, ничего не скажешь. Багроволицая тетка, тащившая ее когда-то с забора, была права. Неужели действительно приходилось так мучиться?
Вика облегченно вздохнула. Разодранная в мелкие клочки фотография полетела в мусорное ведро. Это все уже безвозвратно ушло в прошлое. Об этом можно было не вспоминать. Она включила радио, и детский, неправдоподобной чистоты голос запел о счастье. Немедленно отозвался такой же голос в окне напротив. И был светлый май, и было радостное чириканье воробьев на крышах, и был двор в рыхлых бликах отраженного солнца, и одуряющий запах листвы вливался в квартиру через открытую форточку.
Одна только странность смущала ее в это необыкновенное время. Мать, которая с самого начала не одобряла того, что дядя Мартин назвал «заклинанием духов», теперь, когда этот эксперимент удачно закончился, своего отношения к происходящему нисколько не изменила, на подмигивания дяди Мартина и отца реагировала как-то хмуро, в разговорах о том, что «Виктория-то наша как расцвела», участвовать не хотела, – удалялась на кухню и в раздражении начинала греметь посудой, а если и после этого мужчины не успокаивались, хрипловатым голосом предостерегала:
– Хватит, хватит…
– Почему хватит? – недоуменно спрашивал отец.
– Потому что не надо этих восторгов. Не люблю. Хватит, и – все!..
– Ну, Аннушка, ты не права…
Вика несколько раз замечала, что мать украдкой посматривает на нее – быстро и очень внимательно, будто стараясь понять, что же с ней, Викой, случилось на самом деле.
Вику это слегка задевало.
Радоваться надо, а не раздражаться.
И еще ее задевало, что перемигивания отца с дядей Мартином тоже скоро закончились, оба они, как и мать, начали по-немногу прятать от Вики глаза, вглядываться украдкой, стараясь при этом, чтобы она не заметила, лица у обоих стали виновато-растерянными, а когда Вика однажды прошлась как бы в туре вальса по комнате, чувствуя необычную приподнятость во всем теле, отец крякнул, точно с досады, и на игривый ее вопрос: Я тебе, что, не нравлюсь?.. – ответил с излишней поспешностью: