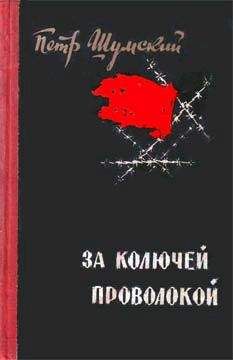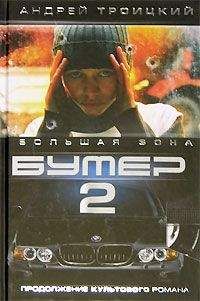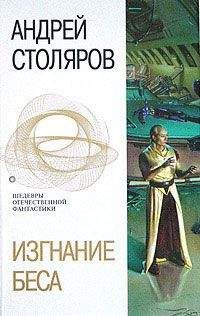Андрей Столяров - Горгона
Долгое, как показалось Вике, бесконечно долгое время ничего не происходило. Она все так же ходила в школу и через силу высиживала в молчании томительные уроки. Выходила к доске и что-то рассказывала, если ее вызывали. Если же не вызывали, и ладно – сама на ответ не напрашивалась. Ей хотелось, чтобы ее вообще больше не замечали. Зеркало по-прежнему отражало проваленный туфлей и расширяющийся книзу гадкий утиный нос, близко посаженные глаза, излишне тонкую и какую-то уплощенную челюсть. Никаких изменений с этим безобразием не обнаруживалось. Мечты оказались иллюзиями. Таинственная «моккана» – мифическим средством, призванным, вероятно, утешить бедную девушку. Она уже воспринимала все случившееся как розыгрыш. Пройдет, наверное, недели две-три, и дядя Мартин объявит, что наступило некоторое улучшение. Теперь ты можешь быть довольна собой, утенок. Это то, что сейчас называют модным термином – психотерапия. Находятся, видимо, дурочки, которые этому верят. Жаль, что она сама уже далеко не дурочка.
Единственным, что внушало некоторые надежды, был неожиданно прорезавшийся у нее чудовищный аппетит. Ела Вика теперь раз восемь в день, и все равно оставалась непрерывно голодной. Завтрак, обед и ужин проваливались в какую-то бездонную пустоту, и уже через полчаса начинало отчаянно сосать под ложечкой. В школе она непрерывно жевала бутерброды на переменках; стыдно сказать, брала с собой чуть ли не целый батон, а, вернувшись домой, прежде всего съедала – первое, второе и третье, далее – пару ватрушек, бублик какой-нибудь, небольшую баночку джема, а потом, это уже после сладкого, наворачивала, не в силах остановиться, грамм четыреста колбасы. Живот у нее вздувался просто, как барабан. И все равно минут через сорок можно было обедать заново. А если она напряжением воли подавляла в себе чувство голода – все же нельзя столько жрать, даже перед матерью неудобно – то у нее начинала чем дальше, тем отчетливее плыть голова, и все тело казалось сделанным из мягкого пластилина. Даже в сгибах локтей появлялось тогда ноющее бессилие, а колени дрожали так, что Вика просто боялась шлепнуться на пол. Впрочем, все это проходило, стоило лишь заглотить, например, бутерброд с сыром. В конце концов, Вика махнула рукой и перестала противиться требованиям своего нового состояния. Организм лучше знает, что ему нужно. Подумаешь, аппетит. Она согласна была терпеть и не такие мучения. Лишь бы сбросить ненавистный утиный облик. А что – аппетит? От аппетита никто еще не умирал.
Самое удивительное, что она нисколько не располнела при том жутком количестве пищи, которое поглощала. Она не сделалась рыхлой, как опасалась, и не прибавила в весе ни одного килограмма. Напротив, даже, кажется, похудела, выпрямилась, вроде бы, стала стройнее и теперь двигалась по квартире с завидной легкостью, чуть ли не пританцовывая. Значит, какие-то изменения в ней все же происходили. Происходили, происходили! Вика боялась задумываться над этим, чтобы не сглазить. Она теперь только искоса поглядывала в настенное зеркало. Лучше уж подождать. Нечего пялиться на себя каждые пять минут. И вот однажды, ей вдруг почудилось, что здесь что-то не так. А когда она, обернувшись на всякий случай – не смотрит ли за ней кто-нибудь, – подошла и чуть не вплотную приблизила лицо к стеклянной поверхности, то увидела, что ненавистные угри на левой щеке исчезли, совершенно исчезли, будто их никогда здесь и не было, кожа на этом месте стала светлой и шелковистой, а недавно еще земляные щеки – матовыми, как она и мечтала.
Вика, не отрываясь, смотрела в зеркало.
Смотрела, наверное, секунд тридцать.
– Ага! – наконец сказала она…
С этого дня можно было фиксировать накапливающиеся изменения. Выявлялись они по частям, точно вода, бесшумно проступающая из-под почвы: крохотными деталями, почти не сказывающимися на всей картине. Возвращаясь из школы, она теперь первым делом бросалась в комнату матери. Створчатое трюмо перестало быть для нее заклятым врагом. Темная стеклянная жуть притягивала, как омут. Смотреть хотелось часами, если бы, разумеется, у нее было бы столько времени, и Вика с радостью отмечала, как прежде желтоватая, дряблая, в крупных порах старушечья кожа в самом деле светлеет и обретает шелковистую гладкость, щеки немного подтягиваются, становясь тонкими и упругими, переносица же несколько поднимается и закрывает волосатые ноздри. Она не могла нарадоваться увиденному. Вот нос так нос! Не греческий, разумеется, но и не продавленная туфля, по которой так и хочется щелкнуть. Вика с нежностью гладила чуть намечающуюся посередине горбинку, с наслаждением расчесывала ставшие вдруг мягкими и матово блестящими волосы, почти не веря, касалась губ, полных ягодной спелости. Никакого сравнения с двумя темными корочками, что были прежде. Ужасный громоздкий костяк тоже больше не выпирал. Она, точно бабочка, выползала из отвратительной оболочки гусеницы. Крылья еще не расправились, и порхать от цветка к цветку еще было рано, однако все отчетливее намечалась сама возможность такого полета. Над землей, над тысячами обращенных к тебе взглядов. Причем, всматриваясь в себя, Вика одновременно осознавала, что какие бы изменения в дальнейшем ее ни затронули, она вопреки им вовсе не станет совершенно другим человеком. Она останется прежней, лишь – ярче, намного осмысленнее и красивее. Точно слякотный черновик, весь в помарках, который перепечатали набело. Видимо, прав был дядя Мартин, когда говорил, что «моккана» ее вовсе не преобразит. «Моккана», если подействует, лишь проявит ее истинную женскую сущность. Так оно, вероятно, и происходило. Проступало именно то, чем она должна была быть. Тайна жизни переставала быть тайной.
Исполнялось давно обещанное.
Вместе с телом преобразился и голос.
– Мокка-а-ана, мокка-а-ана!.. – пела она теперь, оставаясь дома одна.
Звук был чистый, и фанфарные его переливы наполняли квартиру.
Вика не уловила момент, когда это произошло окончательно. Внешне, в отличие от внутренних физических перемен, все еще оставалось по-прежнему. Тоскливое бремя уроков удерживало, по-видимому, сложившийся образ. Никто в классе как бы ничего и не замечал. А быть может, она сама еще не привыкла к своему новому положению и вела себя так, будто ничего, в сущности, не изменилось. Вероятно, мало было обрести новую внешность; требовалось еще, чтобы внешность эта полностью срослась с человеком. Манера держаться должна была стать совершенно иной. Надо было по-другому на все смотреть. По-другому – с небрежным вниманием – поворачиваться к собеседнику. Этому всему еще следовало научиться.
И все-таки что-то сдвинулось внутри скучной обыденности. Вика ощутила это по-настоящему примерно через неделю, тогда, когда, выскочив зачем-то из-за угла на большой перемене, чуть не сшибла с ног Менингита, несущего стопку книг из учительской. То ли Роза попросила его раздать пособия перед уроком, то ли что-то еще. И вот когда тоненькие брошюрки от столкновения брызнули во все стороны, запорхали, зашелестели и полетели прямо под ноги несущимся младшеклассникам, Менингит – болезненно-бледный, упырь, будто из непропеченного теста – почему-то не зашипел на нее, не обругал по обыкновению: Вечно на тебя, Савицкая, натыкаешься! – то есть, конечно, уже вскинулся, чтобы зашипеть и как следует обругать, даже уже разинул рот, бесцветный, как у вываренной рыбы, но вдруг, точно проглотив муху, захлопнул его в комическом изумлении, покраснел, так что аж мочки ушей у него стали пунцовые, неловко присел и начал молча собирать разбросанные по паркету страницы. А Вика же, в свою очередь, вместо того, чтобы скоренько извиниться, – попробуй обидь Менингита, получишь потом по полной программе – также молча глянула на него, присевшего, сверху вниз, а потом переступила через вытянутую ладонь и, не торопясь, двинулась дальше.