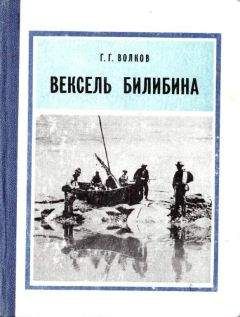Юрий Шушкевич - "Вексель Судьбы" (книга первая)
И наконец, самым неприятным и тревожным являлось отсутствие ясности того, кем именно является он, молодой человек 1916 года рождения, в нынешней обстановке. Ведь если реальностью и объективным физическим феноменом оказалось их с Петровичем умопомрачительное воскрешение после семидесяти лет небытия, то реальностью может однажды стать и обратный процесс. Насколько Алексей мог судить, ничего подобного в известной истории доселе не происходило, поэтому опираться на какой-либо опыт из прошлого было нельзя. А раз нет опыта, раз нет понимания сути случившегося с ним чуда -- то нет и не может быть никакой уверенности в завтрашнем дне. Так однажды ляжешь спать -- и не проснёшься...
Но с другой стороны, что случилось -- то случилось! Он, Алексей Гурилёв, жив, здоров, пребывает в ясном уме, помнит всё, сотворён из плоти и крови. Он чувствует, он живёт, мечтает, огорчается, может шутить, уставать, восхищаться, быть гневным, рассудительным или сентиментальным, надеяться, ненавидеть, любить. Любить? Конечно же, любить. Ибо так устроен мир, что пока человек живёт, он не может не думать о ком-то другом. И дело здесь, наверное, не столько в телесной страстности, сколько в необходимости через того, другого, каким-то образом подтверждать своё собственное неповторимые бытие.
То, что он способен любить, должен любить и будет любить, Алексей знал едва ли с не с первых минут, когда он начал сознавать возобновлённость своей жизни и новую реальность. Он думал об этом и в памятную ночь под стук колёс на длинном железнодорожном перегоне, вглядываясь в звёздное мерцание, и в промозглой очаковской конуре, когда рассудок отступал перед жаром лихорадки, и когда потом, уже вполне пришедший в себя и прилично одетый, он из окна такси вовсю засматривался на нарядных москвичек. И, конечно, же, все эти мысли были с ним, когда он впервые увидел Марию, внезапно ворвавшуюся в его прежнюю гостиную с неожиданной просьбой поискать под крышкой рояля деньги, а он от волнения вскочил и перепутал ноты...
Да, за все эти быстро промчавшиеся и насыщенные событиями дни, общаясь с Машей воочию или живя предвкушением её скорого возвращения из Ленинграда, Алексей вполне решил для себя, что она красива, остроумна и в полной мере способа его понимать. Стало быть, она отвечает тому трудно определяемому, но тщательно выстраиваемому и ревниво сберегаемому образу, который каждый мужчина утверждает для себя в качестве идеала женской добродетели и красоты. Он также всё сильнее ощущал усиливающуюся с Марией душевную близость, происходившую не столько от сходства взглядов на политику и искусство, сколько от оказавшихся созвучными и сопричастными друг другу каких-то потайных внутренних струн.
Разгоняя великолепный автомобиль модного продюсера по залитому оранжевым светом ночному проспекту и наблюдая боковым зрением за острожной улыбкой на Машином лице, Алексей поймал себя на мысли, что ему, вопреки всему сказанному вчера на бульваре самому себе, по большому счёту наплевать на то, что именуется телесной красотой. Однако Маша -- она ведь и в самом деле хороша! А если вдобавок он ещё будет уверен, что вспыхнувшая к ней страсть -- взаимна, что она надолго или, возможно, даже навсегда, -- то почему бы ему в этом не признаться и не сообщить избраннице?
Да, всё верно. Он жив, способен любить и быть любимым. Это всё так, иначе Мария вряд ли бы согласилась на ночное катание с ним наедине. Но вот какими словами следует об этом сказать, как преодолеть эту вечно опасную и оттого пугающую своей необратимостью точку перехода между "до" и "после", между состоянием невозмутимой личной свободы и дуализмом союза между мужчиной и женщиной? Ибо союз этот -- далеко не регистрационная запись в торжественный день, а признание обретённой совместности двух душ. Признание, в основе которого --океан переживаний, который рано или поздно нужно облечь в несколько обязательных слов. Именно слов, потому что ни взглядом, ни помышлением, ни поцелуем или объятием факт наступления этой совместности невозможно подтвердить. Необходимо именно словами произнести сакральную формулу, после которой союз либо наступит, либо нет. Обязательно сначала должно быть слово...
Но вот какое слово -- это вопрос! Алексей, в своё время в изобилии читавший Бодлера, Моруа, Фицджеральда, Готье, Монтерлана и даже тайком Оливию Уэдсли, то ли забыл, то ли не желал принимать чужие формулировки. Тем более что большая их часть относилась к связям прагматичным или легкомысленным. Так что же именно произнести? Как прервать затянувшуюся паузу, когда в предвкушении чего-то недосказанного и важного лишь молчаливые улыбки их обоих проносятся над мокрым асфальтом?
-- Маша, -- поинтересовался Алексей, притормаживая. -- А где сейчас самое красивое место в Москве?
-- Самое красивое? Наверное, на Воробьёвых горах.
-- Я так и подумал. Едем туда. Подскажи только, как лучше -- наверное, через метромост?
-- Конечно. А ты неплохо изучил теперешнюю Москву. Интересно, а как раньше туда из центра ездили?
-- Через Крымский мост и по Большой Калужской. Потом -- поворот на Воробьёвское шоссе. Незадолго до войны там выстроили закрытый институт. А до того времени место было почти диким, местами без асфальта. За Новодевичьим начинался огромный луг с деревенькой, огородами, коровниками и водокачкой. Прямо за Калужской заставой, в оврагах, были городские свалки со Свалочным шоссе и Живодёркой.
-- Живодёркой? А что это такое?
-- Район назывался Живодёрной слободой.
-- Ужас какой! Что же за звери там жили?
-- Да нет же, обычные бабы и мужики. Просто у них работа была такая -- убивать и хоронить негодных старых лошадей. В прежней Москве было очень много лошадей, почти как сегодня -- автомобилей.
Мария заметила, как Алексей вздохнул и как-то по особому посмотрел на приборную панель, потом -- на свои руки, возлежащие на изящном и послушном рулевом колесе, обтянутом дорогой кожей и инкрустированном палисандром. В это время машина взлетала на Метромост и от распахивающейся в обе стороны перспективы захватывало дыхание. Мария отчего-то подумала, что Алексей, должно быть, всё ещё продолжает сомневаться в реальности мира, который привычным и предсказуемым образом окружает их.
-- Такое прекрасное место -- и лежало на отшибе? -- решила она поддержать разговор.
-- Ну почему ж! Сразу после революции на месте нынешнего Университета хотели возвести Международный Красный Стадион. Между прочим, крупнейший в мире. Затем, правда, выяснилось, что фундаменты сползают к реке, и эту затею бросили. Но после стройки на краю склона и внизу остались десятки буфетов и летних ресторанчиков. В них всегда было многолюдно, по Воробьёвке туда специально ходили трамваи. Потом пустили троллейбус -- кажется, четвёртый номер, он бегал от "трёх вокзалов" до Киевского. Кстати, почему-то только здесь постоянно продавали какое-то малопонятное, но очень дешёвое турецкое вино. Так что место числилось популярным.