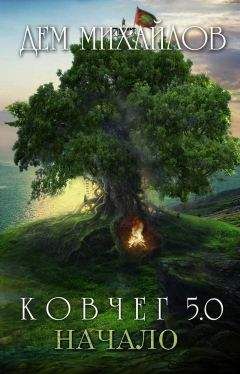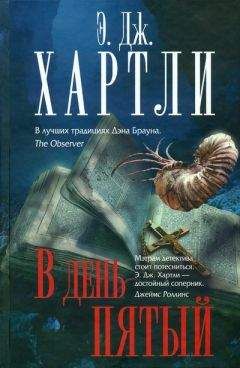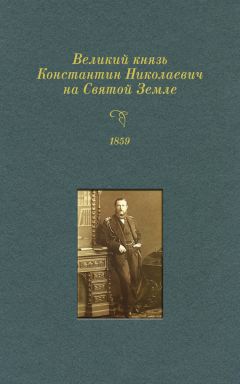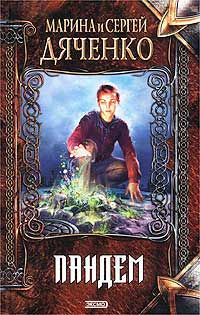Марина и Сергей Дяченко - Рубеж. Пентакль
Шинкарь улыбался. Гринь знал, что, выпив еще чарку-другую, он непременно полезет бить шинкаря. И успеет ударить раз или два, пока не оттащат. Шинкарю хватит. Зальется кровью, начнет голосить противным бабьим голосом.
Он сидел в углу, за пустым столом. В шинке было людно и душно, соседи теснили друг друга на широких лавках – и только рядом с Гринем никто не садился, один шинкарь подбегал иногда, угодливо спрашивая, не подать ли чего.
Его не то чтобы не замечали. Кое-кто с ним здоровался и даже спрашивал о делах – Гринь отвечал односложно. На него смотрели все или почти все; надо было встать и уйти, но идти было некуда, а потому Гринь сидел и пил, благо денег было в достатке.
Двигались челюсти, и крошки застревали в чьих-то усах. Гринь пил, гадливо вытирая губы; напротив сидела компания друзей его детства – Матня, Колган и Василек. Друзья в открытую переглядывались, толкались под столом ногами; друзья сильно заматерели за то время, пока Гринь их не видел. Матня неимоверно раздался в плечах, Колган пощипывал густой жесткий ус, Василек сделался похож на своего отца, плотника, про которого говорили: «рожа, как рогожа».
Гринь пил и не пьянел. Друзья пьянели, наливались краской, голоса их становились все громче:
– …А и спросил бы!
– Батюшкой он его зовет или как?
– Так спроси, спроси…
Матня, пошатываясь, встал. Выбрался из-за стола; Гринь уже знал, куда он идет и зачем.
– А-а-а, – сказал Матня, останавливаясь перед бывшим приятелем. – Много денег заработал, чумак?
– Хватит, – отозвался Гринь и поставил на стол пустую чарку.
– А-а-а… за неделю пропьешь? А за две?
– Хоть бы и пропью – тебя не угощу.
– А что так? – Матня улыбнулся совсем по-приятельски. – Чего ж друга – да и не угостить?
Гринь долго смотрел на него. Потом, не говоря ни слова, плеснул из бутылки в пустую чарку, плеснул и расплескал. Пододвинул чарку Матне:
– А хоть бы и пей!
Матня скривил губы:
– Мне после тебя гадостно пить. Может, ты с новым отчимом своим целовался уже?
Гринь прижал ладони к столу. Плотно-плотно, будто налили под них крепкий столярный клей.
– Чадно, – сказал наконец сквозь зубы. – Выйдем?
Матня свирепо усмехнулся, как будто только того и ждал.
– Выйдем.
Колган и Василек поднялись тоже. И весь шинок смотрел, как они выходили – впереди Гринь, бледный и с перекошенным ртом, следом, ухмыляясь, дружная троица…
Снег улегся. Посреди неба висела желтая половинка луны. Гринь остановился посреди безлюдной улицы; собаки, немного побрехав, угомонились.
Гринь посмотрел в лицо Матне, выбирая слова. И не выбрал; Матня заговорил первым, Колган и Василек стояли у него за спиной.
– Что, чортов пасынок? Что вылупился, как сыч на святую паску?
Гринь молчал. С Матней они вместе крали у попа яблоки – за что оба бывали биты одними вожжами.
– Ублюдка ведьмачьего нянчить будешь? – это Колган.
– Не возвращаться бы тебе, чумак, – это Василек. – Лучше бы тебя телега переехала…
Василька Гринь однажды отбил от двух мальчишек из соседнего села. Те подловили чужака на своей меже и собирались посчитать ему зубы.
– Что сопишь? Мать твоя…
Он сказал, и тогда Гринь без размаха вколотил это слово обратно Матне в пасть. Жилистый возничий Круть, у которого Гринь долгое время был за подручного, научил его бить без размаха. Как гадюка кусает.
Матня, казалось, поперхнулся собственным языком. Глаза его сделались белыми – видно даже при свете луны.
Василька Гринь отбросил, но Колган успел ударить бывшего приятеля по уху так, что ночь зазвенела. Проснулись собаки; Гринь отбил второй удар Колгана и тут же ударил сам. Собаки заходились; дверь шинка оставалась плотно закрытой, как будто все, что творилось на улице, никому не было интересно. Василек и окровавленный Матня кинулись одновременно и повалили Гриня в снег. Подскочил Колган и принялся бить под ребра носком сапога, Гринь взвыл и вскочил на ноги, но Василек подсек его сзади, Матня толкнул, а Колган ударил сапогом теперь уже по лицу…
И все сразу кончилось. Хрустел снег под ногами троих убегающих парней, Гринь сел и сквозь кровь, заливающую глаза, успел увидеть, как несутся вдоль улицы двое, помогая бежать третьему.
«Это Матня, – подумал Гринь. – Я ему чуть башку не снес…».
Белый снег был спрыснут черным. Ни о чем не думая, Гринь поднес к лицу холодный до боли комок, приложил ко лбу…
И понял, что собаки мертво молчат. Хотя за минуту до того заходились лаем.
Он оглянулся.
В трех шагах, у чьего-то плетня, стоял, подпирая луну плечом, высокий темный силуэт. Гринь сидел и все всматривался, все вглядывался, а снег подмигивал под луной, заливая ночь, будто маревом.
– Вставай.
Царапнул по коже озноб. Гринь зачем-то обернулся вслед убежавшим парням, но улица была пуста, и собаки по-прежнему молчали.
Поблескивал снег. Гринь поднялся сперва на четвереньки, а потом и на ноги; в висках застучало горячо и часто.
– Хорошо тебе? В родном доме? – спросили из темноты.
– Плохо, – сказал Гринь, перекосившись от боли в боку.
– Вот и уходи… раз плохо. Здоровый мужик, нечего у матери на шее висеть.
Гринь проглотил слюну пополам с кровью.
Среди чумаков он слыл едва ли не скрягой. Другие зароботчане половину всякого заработка оставляли в мошне шинкаря либо под матрасом веселой вдовы – а Гринь, стиснув зубы, ужимался и копил. Для того, чтобы стать достойным Оксаны. Для того, чтобы мать в старости не знала нужды.
Он не висел на материной шее с того самого дня, когда ему впервые пошили штаны и отправили пасти свиней. Оскорбление было сильнее боли и сильнее страха: Гринь шагнул вперед и встал перед темной тенью лицом к лицу.
– Не уйду. Сам уходи! Попа позову, пусть кадит… Выживу тебя, чертяра!
Тот, что стоял перед ним, растянул черные, как у собаки, губы.
При свете луны и при свете снега Гринь увидел, что глаза у него узкие и длинные, от переносицы до самых ушей, а руки скрещены на груди, и на одной руке четыре пальца, а на другой – много, шесть…
Гринь замолчал, обомлев. Уж не мерещится ли?
– Уходи, – сказал стоящий перед ним исчезник. – Тебе же лучше будет, когда уйдешь… Уходи из села. Чтобы духу твоего здесь не было.