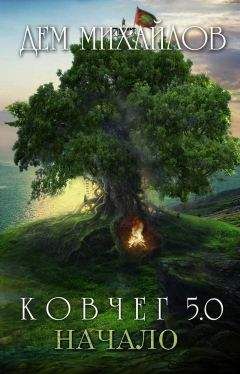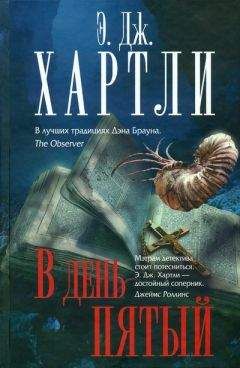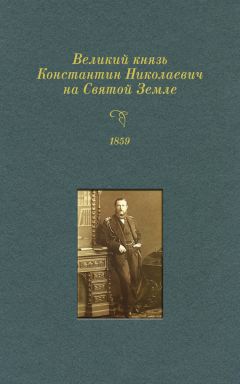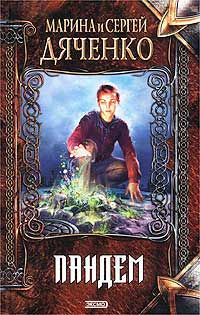Марина и Сергей Дяченко - Рубеж. Пентакль
– Ты один?
Гринь переступил с ноги на ногу – негромко скрипнул снег. Что, надо было приходить сразу же со сватами?
– Один, теточка Явдоха.
Ворота приотворились, пропуская Гриня в узкую щелку. И сразу же закрылись за его спиной.
Теточка Явдоха, Оксанина мать, стояла под снегом простоволосая, куталась в наброшенный на плечи платок, смотрела исподлобья и так странно, что ладони Гриня, сжимавшие шкатулку, сразу же взмокли.
– С матерью виделся?
Гринь захлопал заиндевевшими ресницами. Явдоха вздохнула, мельком взглянула на шкатулку в руках гостя, насупилась:
– Ты, Гринь, зла не держи… Не пущу тебя в хату. Оксану позову. Ты тут постой.
Повернулась и ушла в дом, тяжело хлопнув дверью; собаки хрипло ворчали на цепи, из-за изморози на окнах дом казался бельмастым, на Гриня глядел единственный черный зрачок, смотровое окошко в том месте, где на стекло долго дышали.
Он много раз воображал себе, как это будет. Совсем не так. Совсем не так. Неправильно…
Скрипнула дверь. Лязгнула защелка. Гринь проглотил слюну.
Оксана изменилась. И в то же время Оксана единственная была правильная– из той его мечты, когда, меряя степь шагами, слушая гудение слепней да скрип колес, Гринь представлял эту их встречу.
Оксана больше не была подростком. Меховая безрукавка едва сходилась на раздавшейся груди, лицо потеряло детскую округлость, но все такими же удивленными были глаза и такими же мягкими – губы…
И щеки, вспыхнув на морозе, сразу же сделались как красная смородина. И брови лежали, будто две угольные ленты.
Хорошо, что у Гриня был подарок. А то он точно не знал бы, куда смотреть, что делать…
– Вот! – Он протянул шкатулку.
Оксана, помедлив, взяла.
– Ты посмотри, какая шкатулка! Жары-птицы нарисованы… и посмотри, что под крышкой.
– Долго ты ходил, – сказала Оксана, не глядя на подарок.
Гринь шевельнул ноздрями:
– Долго? Другого нашла?
Слова вырвались сами по себе. Дало о себе знать растущее напряжение.
Оксана подняла глаза. Гринь обомлел под этим взглядом.
– Тебя ждала.
Маленькое оконце в изморози было третьим собеседником. Гринь постоянно чувствовал на себе пристальный взгляд.
– Тебя, говорю, ждала.
Молчание. Оксана прижимала шкатулку к груди, смотрела в снег.
– Так засылать сватов? – спросил Гринь, сам понимая, какой он сейчас глупый.
Оксана мотнула головой. Сбился на ухо платок; Гринь ощутил, как немеют щеки.
– Что, не пойдешь за меня?
Оксана подняла голову. Глаза ее были, как уголья, злые – и мокрые:
– Мать твоя… с нечистым спуталась! С тем, кто в скале сидит. С исчезником. Отец сказал – не отдаст меня за чортова пасынка. Я и сама не пойду… зачем мне в свекрухи – ведьма?!
Снег пошел гуще. Ложился Гриню на плечи, таял на Оксаниных ресницах. А на собачьей шерсти уже и не таял – пес лежал, прикрыв нос лохматым хвостом, превращаясь понемногу в сугроб.
«Неправда», – хотел сказать Гринь.
За черным смотровым оконцем, прогретым людским дыханием, прятался чей-то пристальный глаз.
– Я много денег заработал, – сказал Гринь непонятно зачем.
Оксана молчала.
– Я… сто ярмарок обходил. Всю степь… из конца в конец…
Тишина.
– Я же люблю тебя, – пробормотал Гринь, и ему показалось, что весь снег этой долгой зимы навалился ему на плечи.
Оксана посмотрела на шкатулку. Хотела, кажется, вернуть – но не решилась, слишком яркая жар-птица танцевала на крышке. Золотой и серебряный шлейф, черные глаза, красные перья…
Оксана опустила плечи и, прижимая шкатулку к груди, вернулась в дом.
Снег валил и валил.
* * *– Мама!
По дороге домой Гринь не стал заходить в шинок. Он и прежде не любил шума и чада, а теперь ведь были еще и взгляды, и любопытство односельчан. А соседи, наверное, только того и ждали – сын Ярины явится в шинок, чтобы утопить в чарке свое нежданное горе…
– Мама!! – Гринь грохнул дверью. Вошел в дом, оставляя на полосатой дорожке хлопья мокрого снега. – Мама!!!
– Чего кричишь?
Мать, одетая на этот раз по-будничному, опустила ухват, которым только что вытащила из печки горшок с кашей. Посмотрела на Гриня устало и чуть раздраженно.
– Чего кричишь?
Гринь стоял посреди комнаты, снег таял у него на плечах, на волосах, на сапогах, мокрыми комьями падал на пол, растекался лужей.
Мать отвернулась. Наклонилась, подцепила ухватом другой горшок, вытащила – по комнате разошелся вкусный, пряный запах мяса.
Гринь прошел к лавке. Сел, не снимая кожуха, стал стягивать сапоги.
Мать молчала. Чего-то ждала; передник перехватывал ее талию, и Гринь с ужасом увидел вдруг, что стройная материна фигура испорчена явно округлившимся животом. Что только слепой, только круглый дурачок мог не разглядеть этого сразу же…
Слова так и остались у него в глотке. Гринь сидел, по-детски разинув рот, вытянув ноги – одну разутую, другую в мокром сапоге.
– Что смотришь, сынок?
Гринь сглотнул.
– Ты не смотри так, Гринюша, не смотри. Не тебе мать судить. Ты и не суди…
Гриню вспомнились Оксанины глаза. Злые и мокрые.
– Уж помру я – тогда судить меня станут, – мать поставила миску на стол. – Обедать будешь?
Гринь отвел глаза.
Рядом, на крышке сундука, стояли красные сапожки – дорогой подарок, привезенный Гринем из чужих земель. Мягонькая кожа, высокое голенище, подбитый железом каблучок…
Сам не зная зачем, Гринь взял сапожки в руки. Нога у матери всегда была на диво маленькая – даже сапожник удивлялся, принимая заказ.
Ему захотелось швырнуть сапожки матери в лицо. Сбросить на пол горячие горшки, долго и с удовольствием топтаться по черепкам, по дымящейся каше.
Вместо этого он снова поставил подарок на крышку сундука. Повернулся, пошел к двери; вспомнил что-то, вернулся, подобрал свой сапог, в сенях натянул…
А снег все шел и шел.
* * *Шинкарь улыбался. Гринь знал, что, выпив еще чарку-другую, он непременно полезет бить шинкаря. И успеет ударить раз или два, пока не оттащат. Шинкарю хватит. Зальется кровью, начнет голосить противным бабьим голосом.
Он сидел в углу, за пустым столом. В шинке было людно и душно, соседи теснили друг друга на широких лавках – и только рядом с Гринем никто не садился, один шинкарь подбегал иногда, угодливо спрашивая, не подать ли чего.