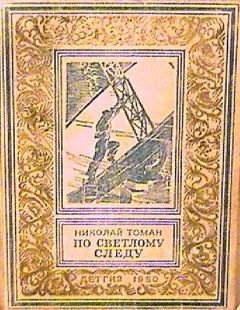Николай Лукин - Судьба открытия
Старший лаборант показал ему журнал анализов; происшествий нынче не было, лаборатория работает нормально.
Вместо того чтобы тотчас же отправиться домой, Шаповалову захотелось зайти наверх, в свою комнату.
Он поднялся туда. А там все без перемен: листы бумаги, исписанные наспех цифрами; в кажущемся хаосе расставлены приборы, масса всяческих сосудов; через спинки стульев переброшены временные провода. На большом столе, в штативах, громоздится уже сыгравшая свою роль установка с тысячесвечовыми — темными теперь — электрическими лампами.
Шаповалов остановился возле этой установки.
Опять им овладело чувство беспокойства, смутное, такое, будто он ищет и не находит выхода. Мелькнули в памяти слова Зберовского: «Потери неизбежны. Энергия-то световая. Ведь фотосинтез!»
Час минул — Шаповалов все стоит и всматривается в блеск стеклянной кривизны. Неужели синтез должен быть обязательно с колоссальными потерями? Свет рассеивается, да… Свет — источник потерь.
Скользят концы каких-то совершенно новых идей — здесь они, близко, — и никак их пока не уловишь, не увяжешь!..
Глава IV. Враги и друзья
Пригревает весеннее солнышко. Под деревьями еще сугробы, но и там снег потемнел, покрылся рыхлой ледяной корой. А проталины все шире, и на аллеях уже сухо — только по бокам струятся ручейки. Приятно, что весна и что учебный год к концу. Тепло, особенно за ветром.
Один — просто в шерстяной фуфайке, вторая — в распахнутом драповом пальто, через парк шли студент и студентка. Они громко разговаривали. Ругали нелюбимого преподавателя: слушаешь его, и такая скукота берет…
— Вот почему, когда сам Зберовский читает, мне сразу все понятно — о чем бы он ни объяснял? Стереохимия ведь — ужас! — горячась, говорила она. — Но все-таки сидишь, когда Зберовский, и спать ничуть не хочется! Честное слово!
— Ну, то — Зберовский! — наставительно сказал студент.
— Чего он лекции теперь — не каждый день?… Не знаешь?
— Да вроде с углеводами опять у себя в лаборатории…
— Безобра-азие, — протянула студентка.
А кое-кто из молодежи был осведомлен получше; тем, которые специализируются при кафедре Зберовского и вхожи в его лабораторию, хорошо известно, что профессор работает сейчас над получением очень сложного, какого-то чудодейственного вещества, по свойствам напоминающего хлорофилл. Как утверждают, оно должно открыть новую эру в науке.
Сегодня Григорий Иванович собрался зайти в областное издательство, где будет печататься его брошюра о возможности гидролиза соломы, стеблей подсолнечника, кукурузы и других отходов сельского хозяйства юго-западной части СССР. И для здешнего края это важная тема, хоть край не совсем-то и южный. Издательство торопит, просит скорее подписать рукопись в набор.
Днем на улицах оказалось изумительно — весна! Теплынь, тротуары сухие. Григорий Иванович не раз задерживался по пути, беседуя со знакомыми студентами.
В издательстве он зашел к директору. А тот был у себя не один. В кресле перед его столом, развалясь, сидел некто солидный, в роговых очках.
— Вот наконец! Я вас заждался! — сказал директор, увидев Зберовского. И, здороваясь с ним, кивнул на человека в очках: — Не знаете друг друга? Познакомьтесь! Почти второе, а для нас, по сути дела, едва ли и не первое лицо в нашем облисполкоме…
Григорий Иванович подал руку и назвал себя:
— Зберовский!
Сидящий сделал движение, словно хочет встать. Глаза их встретились. Оба настороженно-пристально смотрели друг на друга. Крестовников узнал Зберовского, Зберовский же — прежнего Сеньку.
После долгой паузы Крестовников весь точно просиял от счастья.
— Ну, что ты скажешь! А? — воскликнул он. — Григорий!..
Взгляд Зберовского со все нарастающим удивлением ощупывал Крестовникова. К удивлению постепенно добавлялся чуть иронический оттенок.
— Так это, значит, ты? — спросил Григорий Иванович.
— Да я, конечно, я…
Крестовников тихо, как-то приветливо и умно засмеялся. Несуетливый, уверенный в себе, умеющий производить внушительное впечатление. Улыбается, и в улыбке не заметно фальши. Видно, искренне обрадован. Говорит:
— А ты — профессор, как я слышу? Я никогда не сомневался, что перед тобой научная карьера. Да ты подумай, встреча-то какая! Ну, я просто слов не нахожу… — И тут же бросил в сторону, объясняя директору издательства: — В гимназии еще мы… Потом — студентами жили вместе на чердаке, в мансарде. Пуд соли съели сообща. Столько лет не виделись! Не каждый день такие праздники случаются!
Ошеломленный и уже остро ощутивший противоречия в своей душе, Зберовский сел и хмуро, боком глядя, всматривался, вслушивался, пытаясь отличить истину от лжи. Ладонь Крестовникова по-приятельски легла ему на колено:
— Эх, Гриша, Гриша! Много трудных дорог позади. Есть о чем и вспомнить, поделиться… Но я так рад тебе, дружок, ты представить этого себе не можешь.
Григорий Иванович был внутренне в смятении. Кто же он есть — Крестовников, в конце концов? Просто ли грязный предатель, который донес в свое время на Осадчего в полицию, затем сумевший это скрыть и, пробиваясь к власти, ловко обмануть всех окружающих его? Или, быть может, он действительно шел трудными путями, ни сном, ни духом не повинен в том, что ему приписывали смолоду? Все гадкое, что раньше о нем думали, могло явиться результатом чьей-либо страшной ошибки. Быть может, за годы революции он сделал много честного, среди большевиков окреп морально, выстрадал, осмыслил многое и, как следствие отсюда, нынче по заслугам занимает место в обществе…
А как он держится сейчас? Если совесть нечиста, перед одним из знающих всю подноготную так невозможно было бы держаться.
Кроме того, Крестовников — член партии. Даже больше: член партии, избранный руководить. В глазах Зберовского это обстоятельство ставит человека в ряд людей особого склада, не вполне похожих на него самого, но безусловно уважаемых, испытанных людей, которым верить надо не колеблясь.
Крестовников сказал:
— Еще бы, пролетело четверть века с лишком! Не я один — ты тоже постарел, брат. Суровый этакий кремень-профессор. Не улыбнешься, смотришь букой. Воображаю, до чего студенты перед тобой трепещут. Где твоя былая экспансивность?
Слегка наивный по характеру, Зберовский хотел видеть в каждом — и теперь в Крестовникове, в частности, — преимущественно только хорошее. Однако никакими доводами он не мог сейчас заглушить в себе чувства брезгливости к прежнему скользкому Сеньке, не мог освободиться от ужасных подозрений. И Григорию Ивановичу стало почти физически душно. Он поднялся и объявил, что должен уйти, ему некогда, он подпишет рукопись и спешит на лекцию.