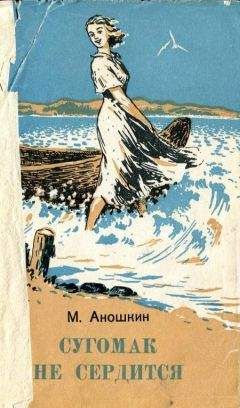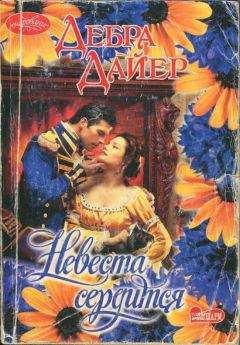Зиновий Юрьев - Черный Яша
– Я понимаю вашу горячность, – очень серьезно говорит директор, – но горячность еще никогда не заменяла ответа. Перед нами стоят сложнейшие проблемы, вы же восклицаете с горящими глазами «наше детище» и считаете, что на этом дискуссия исчерпана.
– Я не хочу исчерпывать никакой дискуссии. Я хочу только сказать, что не надо бояться спорных вопросов… – За мной стоит Яша, я перешагнул через свою трусоватость, и сейчас мне безразличны интонации директорского голоса. – Да, Яша создал массу запутаннейших вопросов, это верно, – продолжаю я, – но что это за наука, если она не порождает с каждым шагом вперед новые проблемы? Да, нам трудно забыть об электронной рукотворной начинке Яшиного мозга и трудно заставить себя относиться к нему как к живому существу. Но он живой. Он абсолютно живой. В нем не бьется человеческое сердце и не течет по жилам кровь. Но он думает и страдает. Он знает, кто он, он любит и ненавидит, он ищет свое место в мире. Да, мы еще только можем гадать, будут ли созданы другие такие существа, понадобятся ли человечеству не искусственные помощники, а искусственные братья по разуму, и если да – как сложатся их отношения. Мы, кстати, не раз говорили с Яшей на эту тему…
– И что же? – спрашивает меня Иван Никандрович.
– Яша сказал, что это очень сложный вопрос и он должен подумать. Он обещал продумать варианты.
– Интересно. Значит, необходимость пребывания Яши в институте не вызывает у вас никаких сомнений?
– Нет, Иван Никандрович, – говорю я с таким жаром, что мне становится смешно, и я улыбаюсь.
– Благодарю вас. Ну а вы, Григорий Павлович, вы по-прежнему придерживаетесь своей точки зрения?
– Да, – твердо отвечает Эмма. – Я считаю создание э… э… Яши безнравственным.
– Как это – безнравственным? – подскакиваю я.
– Спокойнее, Толя, спокойнее, – урезонивает меня Сергей Леонидович и тянет вниз.
– Именно безнравственным, – все так же неожиданно твердо говорит Эмма. – Мы создали жизнь, не подумав об ответственности перед самой этой жизнью. Имели ли мы право создавать разум, заведомо обрекая его на страдания? А он должен страдать, я глубоко убежден в этом…
Колени уже не дрожат у меня от возбуждения, уровень адреналина упал до нормального. Вот тебе и Эмма, кто бы мог подумать…
– Простите, Григорий Павлович, – вдруг говорит Татьяна Николаевна. – Я мать. Я знаю, что такое ответственность. Рожая ребенка, тоже ведь не уверен, что он всю жизнь будет только смеяться… Но все же мы рожаем. Давно уже рожаем. И мы все с вами рождены, и никто не выдавал нашим родителям гарантии, что мы не будем страдать.
– Я понимаю вас, – сказал Эмма, – но, к сожалению, не могу согласиться. Я считаю, что мы не вправе решать этот вопрос.
– Ну что ж, благодарю вас за высказанные мысли, – кивнул задумчиво Иван Никандрович и вдруг улыбнулся доверительно: – Знаете, когда-то я мечтал о том, чтобы стать директором института… – Он бросил быстрый взгляд на заместителя… – Если бы я знал в то время, какую ответственность мне придется брать на себя, я бы, наверное, не стремился так сидеть за перекладиной буквы "Т". Ко решать что-то нужно. Прав, безусловно, Григорий Павлович…
Я почувствовал, как холодный влажный комок поднимается во мне по пищеводу. Еще мгновение – и он закупорит горло.
– И тем не менее, – продолжал директор, – я не могу заставить себя передать Яшину судьбу в чужие руки. Посмотрим, посмотрим…
Я еле доплелся до нашей комнаты, таким измученным я себя чувствовал.
– Это ты, Толя? – спросил Яша своим каким-то удивительно тусклым и скучным голосом. Три недели налаживали этот звуковой синтезатор. Слава Богу, что хоть таким голосом он может теперь говорить.
– Я, Яшенька.
– Ты чем-то расстроен?
«Это что-то новое, – отметил я. – Он уже умеет определять состояние человека по голосу».
– Да ничего особенного.
– Ты напрасно пытаешься меня обмануть. Толя.
– Я не пытаюсь, – вяло сказал я.
– Врешь.
– Нехорошо говорить старшим «врешь».
– Лжешь, обманываешь, говоришь неправду, заливаешь, пудришь мозги, вешаешь лапшу на уши.
– Это еще откуда?
– Из повести, которую ты вчера мне дал. Страница сто шестая, четвертая строка сверху.
– Зачем ты держишь все это в памяти?
– Не увиливай от темы разговора. Ты прекрасно знаешь, что я помню все.
– Нехорошо говорить старшим «не увиливай».
– Не отклоняйся, не отвлекайся, не теряй нить, не растекайся мыслию по древу. И расскажи, чем ты расстроен, огорчен, опечален, выбит из привычной колеи. Но если не хочешь, можешь не рассказывать. Я ведь и так догадываюсь, что речь шла обо мне. И даже представляю себе, что могли говорить.
– И что же ты представляешь, дорогой Яша?
Яша помолчал, потом его динамики издали какие-то царапающие звуки. Я вздрогнул, но тут же сообразил, что это, должно быть, смех.
– Мне не хотелось бы говорить.
– Почему?
– Потому что ты поймешь, что я все понимаю.
– Так или иначе я уже догадывался об этом.
– Да, Толя, я все понимаю. Я понимаю, какое я тяжкое бремя для тебя, для Тани, Феди, Сергея Леонидовича, Галочки – для всех, кто хорошо относится ко мне.
– Это неправда, – сказал я с пылкостью, которая рождается только тогда, когда тщетно пытаешься убедить в чем-то самого себя.
– Правда.
Я вспомнил, как Яшино печатающее устройство выстукивало «Правда?», когда я уверял его в своей любви. Сегодняшняя правда была другой, зрелой и печальной. Он жил в ином временном масштабе. В переводе на масштаб человеческой жизни он прожил за эти два месяца лет двадцать. Впрочем, говорят, что больные и увечные дети взрослеют намного быстрей здоровых…
Я не стал больше переубеждать его.
6
В субботу я оказался в гостях у Тони и Володи Плющиков. Видимся мы редко, и была бы моя воля – не виделись никогда. Но Плющики очень четкие люди, и будучи однажды вписанным – после пляжного знакомства на Рижском взморье – в реестрик их знакомых, я два или три раза в год приглашался в гости. Вначале я пробовал вежливо отказываться, ссылался на занятость, но вскоре понял, что не смогу избежать мертвой дружеской хватки, и сдался.
Я купил у Белорусского вокзала грустный, пыльный букетик, прошел по Брестской и поднялся к Плющикам. Дверь распахнулась, большой, шумный и пышущий жаром Володя стремительно втащил меня в глубь квартиры, как паук жертву, большая, шумная и пышущая жаром Тоня вкатила в меня два звонких театральных поцелуя, уже вдвоем они потискали меня еще немного, весело и привычно поругали за отсутствие энтузиазма в дружбе и втолкнули в комнату.
Обычно, когда мы видимся, я каждый раз спрашиваю себя, зачем я им нужен. Связей у меня нет, особым шармом или талантом тамады я, увы, не наделен, девочка их, если и будет нуждаться в репетиторе перед поступлением в вуз, то лет только через пятнадцать.