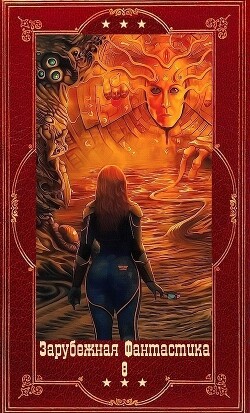Старость аксолотля - Дукай Яцек
Я устроил себе ночлег в люльке корней могучего «дерева» и уснул без химической поддержки. Мне приснилось… Впрочем, нет, потому что, когда я проснулся, меня преследовала пустота. За эти несколько часов мое ложе обросло полупрозрачной мембраной. Я перерезал ее ножом. Она вскрикнула. Я встал. Мембрана резко разбежалась в стороны. Движимый дурным предчувствием, я достал из рюкзака металлическое зеркало и заглянул в него. Вся открытая поверхность кожи, включая лицо, обрастала чем-то вроде короткошерстного меха, нежного мха медового цвета, если ноктостекла не лгали. Я сбрил мох бритвой. Он пока не отрастал. Я растворил в миске завтрак и принялся задумчиво его пережевывать; повернув механическим движением миску к нашептанной майором Блоком точке на вдвойне закрытом небосклоне Мрака, отправил скупой рапорт об отсутствии контакта. Через полчаса увидел первый тотем.
Это был почти человеческий череп, надетый на вбитый в ствол дендрофунгуса кол. Его закрепили на уровне моей головы, и я мог с ним обменяться столь же ничего не понимающим, пустым взглядом. Череп до боли напоминал кость Homo sapiens, я даже пересчитал зубы. Неужели так заканчивали переговорщики, эмиссары Клина и других баз? Теория Гаспа о том, что именно Тойфель мастерит эти пугала, на фоне такого турпистского народного творчества показалась вполне правдоподобной. На виски черепа были нанесены каким-то бурым густым соком тугие спирали; с нижней челюсти свисали пучки пересохшей травы с нанизанными на них костяшками пальцев, тоже явно человеческих. Итак, Лещинский… Хотя, по правде говоря, здесь немного нарушалась хронология; когда были зарегистрированы первые тотемы, по ним еще били с орбитальных лазеров – но были ли этими тотемами и черепа? И когда, собственно, начались первые посольства? Потому что Тойфель сидит здесь уже почти четыре года Мрака. Сначала были эти картины, дадаистские богомазы, намалеванные белой и красной глиной на камнях и стволах. Гасп показал мне их фотографии. Дурхманн, который первым наткнулся на них, настаивал по праву первооткрывателя, что это творения некоего местного неопознанного разума. Но Дурхманн был всего лишь пилотом, и ученая братия дружно высмеивала его – до момента утечки из лагеря японцев. У тех где-то на орбите был искусственный интеллект третьего поколения, и досыта накормленная данными машина сообщила им, что по крайней мере дюжину образцов фауны, пойманных на окраинах Ада, никоим образом невозможно подогнать под эволюционные диаграммы биосферы Мрака. Икисава-сан, между прочим, физик, очень консервативный в своих взглядах, выступил с гипотезой об эпизодических связях Ада с другими экосистемами. В переводе на простой язык это означало допущение существования каких-то над-, под– или около– пространственных врат, через которые попадают в Ад (откуда? – возможно, с других планет) элементы их биосфер. Связи не могут быть постоянными, ибо такой вариант означал бы де-факто объединение и унификацию смешанных биосистем, что исключало бы замеченные эволюционные расхождения; но, с другой стороны, не должны быть и слишком редкими, ведь отловленные экземпляры каким-то образом выжили в Аду. Гипотезе не угрожала бритва Оккама, потому что она объясняла и факт выживания в этой среде Лещинского: он, видимо, знал расположение подходящих врат и не был обречен питаться белками Мрака, которые его организм не способен переварить. В этой модели пространство-время Ада представлялось настоящей кротовой норой, полной невидимых туннелей, ведущих в тайные места назначения. «Нет цены, которую нельзя было бы заплатить за контроль над этой областью», – писал Фульке в письме ко мне. (Не была ли это просто копия письма, которое он отправлял и моему предшественнику, и предшественнику предшественника?..) «Вполне возможно, что этот У-менш является ключом к лебеншрауму [209], распространяющемуся по всей галактике. Однако если это не так и есть другое объяснение, тогда не в интересах Рейха публично фальсифицировать теорию Икисавы». Я поручил микроцифферрехненмашине скачать с ноктостекол изображение тотема и прикрепил его к ближайшему рапорту, после чего двинулся дальше.
Мое тело и разум постепенно уставали от джунглей, подобно тому, как устают от постоянного давления самые твердые материалы; непрерывный поток стимулов заглушал и притуплял чувства. Существует предельное количество свежих ощущений, которые человек способен в единицу времени поглотить, после чего ему уже начинает не хватать места. Что-то там мелькало на границе восприятия, перебегали дорогу какие-то раскоряченные уроды, внезапные извержения звуков из окрестных зарослей заглушали мысли – я даже не поворачивал головы. А вместе с усталостью вернулся страх. Это мой единственный шанс побега, только на него я могу рассчитывать, в бесконечной тоске, в полной растерянности, в одиночестве – страх меня не подведет. Ассоциации, выработанные многолетней привычкой, сами прекрасно знают, в какую сторону бежать. Карту синаптических автобанов не изменить. Наконец я ощутил потребность остановиться, упереться руками в колени, глубоко вдохнуть воздух Ада, смердящий аммиаком, метаном и сероводородом. Ты мертв, помнишь, ты уже мертв, ты умер в тот момент, когда покинул палубу вертолета.
Поэтому я двигался вперед, ведомый мрачным голосом майора Блока, всё глубже в Ад, глубже в смерть, к таинственному Тойфелю. Мне встретились и другие тотемы и рисунки, всего три черепа, я готов поклясться, что человеческие. Впрочем, их создатели не оставили ни малейшего следа. Это абсолютно точно не местный разум, уверяли в один голос Фульке и Гасп, ему просто нет места в эволюционных схемах Мрака, даже принимая во внимание значительную степень нашего незнания и хаотичность происходящих здесь процессов; с тем же успехом можно было бы ожидать внезапной мутации от хомяка до шимпанзе, не хватает добрых нескольких десятков ступеней, и, во всяком случае, ни с одним из них мы до сих пор не сталкивались, вероятностность против разума. Если не Лещинский, то что остается? Только Кротовая нора Икисавы и какие-то инопланетные злоумышленники. В самом деле, мне было трудно во что-то подобное поверить, я был готов скорее позволить воображению представить безумного Тойфеля, графа Лещинского, который бегает туда-сюда по Аду и насаживает на колышки разделанные черепа убитых переговорщиков. Такая картина рисовалась мне с тем большей легкостью, что перед сном и иногда во время переходов я прослушивал записи речей У-менша. Он сказал: – Я буду королем. Я вас втопчу в грязь. Я смету вас с лица Мрака, смету с лица Земли, ваша дьявольская раса исчезнет навсегда, не выживет ни капля проклятой крови. Армии уже готовятся. От моей руки, от моей мести погибнет каждый из вас; воскреснут замученные, вернется волна несправедливости. Небо будет черным, и вы не увидите утра. Мрак пойдет со мной. – И он сказал: – Ибо Аз есмь Бог мира сего, моя тьма пульсирует в самых отдаленных его уголках. Я посылаю чуму на ваши поля. – И в течение двух недель после этого заявления скрытые глубоко под поверхностью планеты фермы, где выращивают усваиваемое человеком зерно и разводят на убой земных животных, пали от странной заразы; все, всех четырех государств. И он сказал: – Вы боитесь? Бойтесь; пусть страх проедает вас до костей. Вы придете на коленях, вы придете, умоляя, чтобы я сделал вас моими рабами, защелкнул ошейники на загривках. Да не познаете вы до самой смерти блаженства спокойного сна. И тогда я начну причинять вам боль; и научу вас благодарить за нее и молить о большей боли; научу вас воистину жаждать страданий. Вы будете упрашивать для себя еще больших унижений… – Голос у него был особенно визгливый, что-то там чавкало и скрипело глубоко в его гортани, когда он выплевывал в эфир слова, как густую мокроту, и они так же скапливались в головах слушателей: магмой холодных плевков. На Клине я рассматривал его фотографию: темные глаза, еще более темные под свесами надбровных дуг, угловатый, покрытый какими-то бугорками и продольными утолщениями череп, плотно обтянутый кожей нездорового оттенка с предписанной короткой щетиной волос неизвестного цвета. Криво сросшийся носище, как у боксера, выдвинутая вперед челюсть. Равнодушное лицо ничего не выражает, но все же кажется, что Лещинский смотрит с этой картины с такой враждебностью, что вы сами начинаете искать в себе вину и признаете правоту его ненависти. И это великая мощь. Удивительно, что его не отправили за один только вид на трансплатационную бойню, а запихнули в «Адольфа Гитлера». Очевидный недочет в программе отбора.