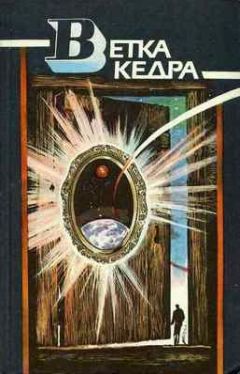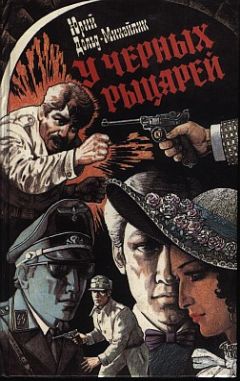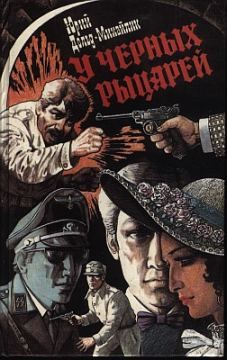Игорь Ткаченко - Путники
Джурсен ему не мешал и не обращал на него, казалось, ни малейшего внимания. Это был испытанный прием. Художник виновен, Джурсен уже почти наверняка знал это, знал это и сам художник. Пусть поволнуется. Хотя, конечно, за эти несколько минут он, наоборот, может успокоиться, собраться с мыслями и подготовить аргументы в свою защиту. Пусть так. Джурсен не боится схватки. Куда приятнее иметь дело с умным человеком, чем с ошалевшим от ужаса и ничего не соображающим животным,
Но в чем его вина?
Джурсен медленно пошел вдоль стены, одну за другой поворачивая и разглядывая картины. Туг были портреты сановников и адептов, поясные и а рост, законченные и едва намеченные углем; несколько городских зарисовок, сцены из священных книг, "Сошествие святого Данда с корабля", "Дарование святого Гауранга", "Гнев Гунайха". , Это не то. Не здесь нужно искать. Джурсен смотрел, и им все больше и больше овладевало недоумение: где умысел? Это были работы ради денег. И только. Профессиональные, талантливые, Джурсен в этом разбирался, но -- всего лишь ради денег.
Джурсен почувствовал, что азарт охотника, охвативший его вначале, понемногу исчезает.
"Это плохо, -- подумал он. -- Молчание слишком затягивается. Нужна зацепка. Но где ее искать?"
Он подошел к следующей стене и, повернув к себе один из холстов, сначала ничего не мог разобрать Просто темнота. Но постепенно детали стали вырисовываться, то, чего не видел глаз, дорисовывало воображение. Темное распахнутое окно, смутный силуэт человека подле него, горбы крыш за окном, в углу -- край смятой постели.
Картина на была закончена, но Джурсен уже увидел.
Ведь это его, Джурсена, комната в доме свиданий ею окно, его постель. Это он, Джурсен, стоит перед окном, а там, за крышами, похожими на горбы чудовища, невидимые в темноте -- Запретные горы.
Он повернул еще картину, еще одну, еще и еще в поисках -подтверждения? опровержения?
Сидящая на постели девушка, руками она зажимает себе рот. В глазах, непропорционально огромных на бледном узком лице, ужас и крик. Что она увидела там, за границей картины?
Ларгис.
Ларгис, услышавшая его, Джурсена, признание, его тайну, его тоску и смятение.
Запрокинутое к небу лицо рыбака. Восход солнца над морем. Не восход, а лишь предощущение восхода, когда море и небо еще едины, еще не вспыхнули вершины гор, еще не поплыл над миром гул колокола из Цитадели.
-- Как ты назвал ее? -- тихо спросил Джурсен.
-- "Предощущение", -- так же тихо отозвался художник.
Джурсен почувствовал вдруг к нему ненависть и жалость одновременно. Он вглядывался в лицо художника и угадывал в нем себя. Такого, каким он мог бы стать, если бы мальчишкой еще, вернувшись однажды с занятий у художника, не обнаружил на месте дома развалины. Перед развалинами еще стояли и обалдело мотали головами соседи с ломиками.
Этим художником мог бы быть он сам. Эта мастерская или точно такая же могла принадлежать ему, и этой женщиной могла бы быть Ларгис. Это могли быть его, Джурсена, картины. Он написал бы их!
-- Твои родители живы? -- спросил он.
-- Погибли под развалинами во время уничтожения стен и перегородок, -сказал художник. -- Уничтожили лишнее, кровля не выдержала и рухнула. Я был на занятиях, а когда вернулся...
Джурсен вздрогнул, как от удара, и расхохотался, но тут же оборвал смех, умолк и молчал долго, а когда заговорил, голос его был спокоен и негромок.
-- Ты пришел и увидел развалины, и рядом стояли соседи с ломиками, а другие соседи копошились среди руин, разбирая утварь, и кто-то сказал тебе, что твоих уже увезли. Ты так их и не нашел. Первую ночь ты провел там же, на развалинах, а потом ночевал в других местах, где придется. Лучше всего на пристани, у складов, там всегда можно было поживиться рыбой и испечь ее в золе. Еще хорошо в торговых рядах, но там у одноглазого сторожа была длинная плетка с колючкой на конце... Вас таких было много, были постарше, они умели воровать и не попадаться, и были совсем маленькие, они ничего не умели. Потом они все куда-то подевались. У тебя оставалась стопка бумаги и уголь, ты рисовал торговцев, и они тебя кормили. Но по вечерам, если рядом был свет, ты рисовал отца и мать, и каждый раз у них были другие лица... А что было потом?
-- Откуда ты знаешь? -- ошеломленно пробормотал художник. -- Я никому не рассказывал... Потом меня взял к себе художник, к которому я ходил.
-- А я попал после облавы в приют, -- чуть на вырвалось у Джурсена, но вместо этого он сказал:
-- Бывают дни, когда ты не можешь найти себе места, все валится из рук, все раздражает, солнце становится тусклым, а листва на деревьях -- серой, друзья кажутся глупыми и скучными, работа -- бездарной мазней, и в душу вползает холодный густой туман. Но еще хуже -- ночи. Ты просыпаешься и уже не можешь заснуть до утра. Ты распахиваешь окно и смотришь в темноту, туда, где -- ты знаешь -- громоздятся на горизонте Стена и Запретные горы. И больше всего на свете тебе хочется уйти из Города, просто взять и уйти, и идти долго-долго, в горы, перейти через них и опять идти, не останавливаясь, А иногда тебе грезится наяву, что летаешь и ветер в лицо. Ты летаешь над Городом, горами...
-- ...над морем, -- прошептал художник.
-- ...и дышится легко, полной грудью, так легко, как никогда не дышится наяву.
-- ...но наваждение проходит, и становится совсем плохо.
-- Ты никогда никому этого не рассказывал, только однажды ночью. Жене. А она...
Художник вдруг осел на пол, будто ему подрубили ноги,
-- Не может быть! -- прошептал он. -- Алита? Не может быть. Но зачем?! Неужели... -- он обхватил голову обеими руками и застонал, раскачиваясь из стороны в сторону. -- Она не хотела, она боялась, думала, что я болен, и верила, что это пройдет... Теперь не верит, -- бормотал он. -- Понимаю, теперь я все понимаю..,
Джурсен словно очнулся от забытья и ошеломленно смотрел на художника. А тот вдруг вскочил на ноги, лицо его исказилось, рот дергался.
-- Да! Да! Да! -- закричал он. -- Она все верно рассказала, все так! Да, я думал об этом, всегда думал! Да, я переступал через Стену и уходил из Города, дважды уходил и дважды возвращался, потому что боялся, не мог уйти насовсем. От нее не мог уйти. Я предлагал ей уйти вместе, но она... она уже согласилась, а теперь вот, значит, как все обернула...
Он хотел сказать что-то еще, но из-за ширмы по явился адепт-наставник и, стукнув посохом об пол, уронил одно-единственное слово:
-- Признание.
Художника увели. Зеваки перед домом стали расходиться. Последними из дома вышли Джурсен и адепт-наставник. Чувствуя страшную слабость во всем теле, Джурсен прислонился к стене. Взгляд его скользнул по дому напротив, и тотчас холодная испарина покрыла его лоб.