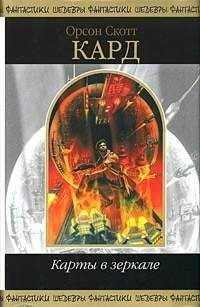Борис Письменный - Явление Духа

Обзор книги Борис Письменный - Явление Духа
Письменный Борис
Явление Духа
Борис Письменный
Явление Духа
Дух прилетал в гости семьсот первым рейсом компании Финэйр. Я не видел его больше двадцати лет и пока, разгоняясь и стопорясь, пробивался в растущем трафике по скоростному шоссе Ван Вик все пытался представить себе каким же глубоким стариком должен быть Дух, если и на моей памяти он был уже дедом.Чем ближе к Кеннеди, тем живее представлялся он мне. Согнутая фигурка Духа и его морщинистое удивленное лицо уже немного витали на приаэродромном шоссе, вдоль которого мелькали домики Квинса, деревца в белорозовой цветочной пене и щиты с группами авиалиний. Его становилось все больше и больше, чтобы потом, в зале ожидания Дух материализовался совсем, задышал и обрел тело, чтобы я бы смог лицезреть его целиком, взять за руку и привезти к нам в Нью-Джерси.
Весна вышла солнечная и прохладная, 'ниже среднего' по нью-йоркским стандартам, а по нашим-так в самый раз-стояли почти московские победные майские дни; такие, когда утро встречает прохладой и ветром встречает река, когда не спит, встает кудрявая, и вся страна встает, ясное дело, со славою. Это как раз в такие дни у нас дома, на высокой пристройке под оцинкованной крышей, на пятом без лифта этаже молодая, еще совсем живая и веселая мама, напевая про 'кудрявую' невсклад-невлад, но от души, приносила к нашему единственному окну таз с горячей мыльной водой. Мы вычищали проложенную между рам аптечную вату в прилипших елочных иголках, находили какие-нибудь копеечные медяшки, огрызок карандаша, желтую скорченную куриную лапку, газетные замасленные обертки от ста грамм колбасы и серебряную шелуху от плавленого сырка и прочей, висевшей зимой на морозе зафорточной провизии.С длинным шорохом мы срывали бумажные полоски в засохшем мучном клейстере и, враз, с шумным треском распахивали окно... И тогда наступала весна.
Ласковый майский ветер и грохот улицы врывались в комнату. За углом, в Оружейном переулке у районных семейных бань, звенел трамвай; внизу, во дворе, весело ругались бабы, звонче всех - жирная Маруська; шипела радужная струя из дворницкого шланга; сладкий запах керосина и пыли щекотал нос; 'зима-лето-попугай!' истошно дразнили кого-то детки. Из одного окна настойчиво пиликала скрипка; из другого - настойчиво звали к столу: Владимир, иди же, я тебе накладываю! Какие же глухие, закупоренные мы жили всю зиму! Кубарем, обгоняя испуганных кошек, я слетал с лестницы и первым, кого я замечал во дворе, был Дух. В окружении почтенной публики он сидел на столе у дровяного сарая и прилаживал на плечах лямки своего трофейного баяна. Ждали с нетерпением; выносили из дома табуретки; подтаскивали ящики из-под кильки, сваленные у черного хода продмага. Ребята садились поодаль на покатой крыше угольной ямы. И вот - австрийский инструмент оживал, начинал выделывать восьмерки; сверкая перламутровыми пуговицами, баян всхлипывал, сморкался и хохотал, и наш жалкий двор переставал быть жалким, медленно покачивался и кружился в ритме довоенного вальса.
- Брысь отсель в ритме вальса! - так цыкал и хрипел одноногий Пашка 'Пахан' на слишком приближавшихся пацанов и стучал костылем.
Женщины, в перелицованном крепдешине на ватных плечиках, укрывали столярный верстак старыми газетами Правда и Британский Союзник, раскладывали угощение - крутые яйца, пучки зеленого лука и черняшку Рижского, припушенного мукой. Посередине верстака, в честь Девятого Мая, водружалась кастрюля с самогоном.
С соседней улицы Горького доносилось глухое радиоэхо; там шла и шумела в качающемся звоне литавр и песен демонстрация трудящихся, откуда к нам проходным двором забегал, ища где бы пописать, какой-нибудь лопух в буклистой кепке с бумажным цветком.
- А ну, эвакуируйся в ритме вальса на свою демонСрацию! - шугал его костылем Пашка, - ишь, налимонадился, козел!
А бабы, те наоборот, сочувствовали и жалели.
Баяниста звали Духом только приятели и больше заглаза; вообще-то к нему обращались уважительно - Сан-Макеич. - Сыграйте нам, пожалуйста, Сан-Макеич, как два уркана бежали с одесского кичмана... Нет, Люськи сегодня еще не видели, Сан-Макеич... А еще про то, как в нашу гавань заходили корабли... будьте уж так любезны, все очень Вас просЮт...
Был он пехотный капитан - Александр Макеевич Духовичный, прихрамывающий бывший фронтовик как многие в том дворе, донашивающие гимнастерки, кто с культей в завернутой штанине галифе, кто без пальца, кто с оббоженным, как копченая ветчина, лицом. На праздники они напивались вдрызг и вдупель, крепче обычного, до мычания и мутных глаз, валились навзничь, затравленно глазели по сторонам...
По гроб жизни в детской памяти сохранилась их бормотуха нам тогда еще не совсем внятных отчаянно красивых присяг: - ...пускай погибну безвозвратно, навек, друзья - навек, друзья, но обещаю аккуратно пить буду я, пить бу-у-ду я! Все это, известное, дорежимное, почему-то хочется цитировать и цитировать - только начни... Вот, еще одну строчку; как там: ...ничто меня не устрашит, и никакая сила ада мое сомненье не смутит! Слова тут, каждое - перл или сколок бутылочного стекла - не важно! они для нас несказанно дорогие крупицы нашего безалаберного дворового образования.
...В одном углу двора тимуровцы, взгромоздясь друг на дружку, делали гимнастическую пирамиду; и у верхнего, с флагом Победы в руках, у Вальки-Малыги, изображающего самолет, сползали на коленки черные футбольные трусы. Его плохо оперившееся хозяйство болталось без присмотра; девочки прыскали и закрывали глаза ладошками.
В другом конце двора - сапожники играли в пристенку, где, чтобы выиграть, надо было, растопырив пальцы одной руки, коснуться соседних монет. Татарин Мирза немного не мог достать; он вытащил острое сапожное лезвие и полоснул себе жилы меж пальцев. Кровь брызнула на асфальт. Мирза дотянулся . Он прикарманил двухгривенный, взяв другой, здоровой рукой, а потом, испугавшись большой крови, стал бледнеть, превращаясь из смуглого в зеленого, и наш участковый уполномоченный Полтора-Ивана, обзывая Мирзу прямо в глаза Кильмандой, посадил в коляску своего милицейского мотоцикла и, стреляя выхлопами, повез лечиться в районную поликлинику на Миуссы.
Отрезвев, мужики одаривали ребят конфетами; давали глотнуть тем, кто постарше, добавляли и сами; матерились, ни с того ни с сего озлобленно дрались. На все оставшиеся рубли покупали в кассе гармошки синих билетов и всем двором шли в кино - в Летний Сад Аквариум. Малыши протыривались, клянчили: - Дядь, проведи... Их проводили. Говорили контролерше: - Этот со мной. Мальчишки постарше, мы пролезали через щели в черное, гвоздями набитое сырое нутро киношного павильона; оказывались промеж стен, откуда, через дыры в фанерных перегородках могли видеть - кто полэкрана, кто четверть, кто и того меньше; зато - какое это было ни с чем несравнимое счастье - слышать за стенкой победную киношную музыку, голоса киноартистов и в десятый раз переживать Падение Берлина или Маленькую Маму, которая 'была взята в качестве трофея у немецко-фашистских захватчиков'... Мы выучили фильмы наизусть, и, даже те, кому не даставалось дыры в стене, он сидел в куче-мале, сопел, слушал и воображал себе кино, чтобы в заветный переломный момент страшного боя завопить вместе со всеми - Н-А-АШИ!