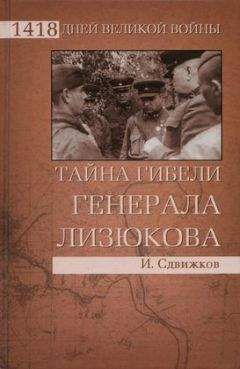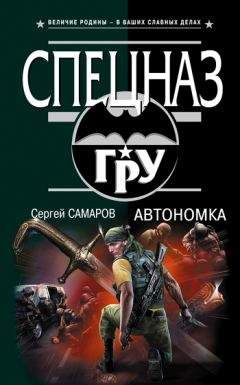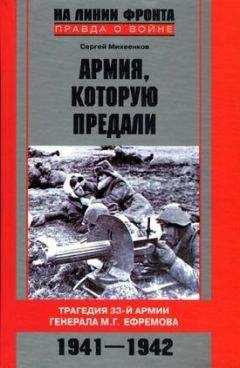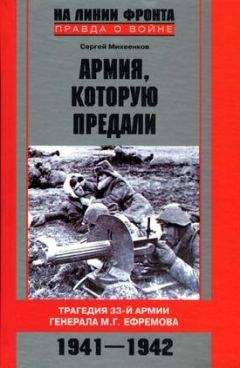Александр Киричек - Водоем. Часть 1. Погасшая звезда
— Ты имеешь в виду своих солдатиков?
— Конечно… и тебя тоже… Я потому и пришла к тебе, чтобы ты помог мне понять, как же жить мне дальше, помог разобраться, где та грань, которую нельзя переступать… А ты, похоже, и сам толком ничего не знаешь…
— Может, все это случилось ради тебя? — попытался найти пути выхода из тупика Сергей. — Чтобы ты дала миру иной стандарт поведения, иные заповеди, правила, иную… религию?
— Религию? Ты о чем?
— Я о религии свободы и любви…
— Может быть, не думаю… Надеюсь, ты не собираешься создавать новое «Белое братство»?
— О, нет, там нет ни свободы, ни любви, как впрочем в любой тоталитарной секте… К сожалению, — продолжал изложение заветных мыслей молодой философ, — мы уже почти забыли, что христианство — это не только религия любви, но в не меньшей мере и религия свободы. И наши свободолюбивые предки именно поэтому его и признали, так быстро и почти безболезненно приняли. Ведь еще Иларион — первый русский митрополит, точнее, первый митрополит из русских, — в своем «Слове о законе и благодати» говорил об этом… А сегодня, кто сегодня вспоминает, что христианство — религия свободы?
— Чаще говорят, что христианство — религия любви… — робко заметила девушка.
— Да, хоть это радует. Но посмотри, кто громче всех об этом кричит — именно те, кто не умея любить сами, алчут побольше даровой любви к себе. Ты заметила, что когда воспроизводят слова Христа «Возлюби ближнего своего как самого себя», то акцент делают не на «ближнем», а на «самом себе»?
— Пожалуй, — подтвердила девушка, но продолжала гнуть свою линию, а потому добавила — уступать было не в ее правилах: — Но, может, это временно? Мы ведь только-только возрождаем у себя православие?
— Ты хочешь сказать, что это «трудности роста»? Да веришь ли ты сама себе? Вот увидишь, пройдет 10–15 лет и храмы запустеют, мода на православие пройдет, и будет все еще хуже, циничнее и злее. Народ усвоит новые правила, новые буржуазные ценности, и… бедные будут завидовать и ненавидеть богатых, а богатые будут купаться в роскоши, плюя на этот народ и смеясь над его ценностями… И где же тут место для любви?
— Грустно… — наконец согласилась Света, которую спор изрядно уже утомил.
— Да, но надо все же жить, жить и делать свое дело, культивировать редкие островки любви, сохранять тихие заводи свободы в этом бушующем море эгоизма, зависти и злобы… — подвел некоторый промежуточный итог разгорячившийся философ.
— Я знаешь, что думаю… Сейчас попробую сформулировать… — после небольшого антракта в разговоре вдруг оживилась Света. — Мне кажется, что дело не в том, что мать предала свою первую любовь, отказав Максиму. Не за это она была наказана. Понимаешь, уговаривая отца поехать на войну, она думала больше о себе, чем обо мне и о нем. А это значит, что любила она как собственник, эгоистично, и когда говорила «Нет» Максиму, кстати, вопреки голосу сердца, то тоже больше думала о себе — не о том, что папа погибнет, а о том, что она лишится мужа, что именно ей, а не папе, будет плохо, что именно её, а не его жизнь пойдет под откос. Мне кажется, что именно за это, за этот эгоизм она и была наказана. А мне… мне, похоже, придется ее ошибки исправлять…
— Да, ты рассуждаешь как зрелый мыслитель! — искренне восхитился услышанным Костров. — Но надо не только исправлять ошибки, чужие ошибки, но и не делать новых, своих собственных! Ты не боишься… оступиться?
— Боюсь, конечно, боюсь… Полагаешь, что то, что случилось между нами, — это ошибка?
— Нет, что ты…
— А секс будет ошибкой?
— Как бы мне хотелось сказать «нет», но я говорю: «не знаю»…
— А кто знает? Кто должен знать?
— Только ты и можешь знать, потому что я… я уже почти люблю тебя и у меня нет мужа, служащего в Чечне…
— Ты предлагаешь мне принять решение? Возлагаешь ответственность на мои женские и без того хрупкие плечи? Но откуда мне знать, что я должна делать или не делать?
— А ты послушай свое сердце, что оно говорит тебе сейчас! — наконец-то дал дельный совет Сергей.
— Сердце?…
— Да, только оно зорко — помнишь Сент-Экзюпери?
— Увы, не читала… Но слышала…
— Так что же сердце? Твое сердце? Только не ври ни мне, ни самой себе…
— Оно хочет… хочет…
— Чего же, Светочка?
— Чтобы ты меня любил сегодня, всю ночь… Я устала любить, я имею право… хоть один раз, чтобы любила не я, а меня… Но только если ты… если ты любишь меня. Скажи, любишь?
— О, Господи! Да разве же можно тебя не любить??? Ки пуррэ нэ па труве дю бонёр а ву вуар!!! Ой, прости… вылетело… Перевести?
— Нет, не надо, мне понятно.
— Что же тебе понятно?
— Что тебе со мной хорошо, и я этому рада…
— Спасибо, любимая. Тебе не придется жалеть, поверь мне!
— Надеюсь, Сережа. Но это точно не разврат?
— Но ведь я люблю тебя, Светочка! А когда есть любовь, то разврата быть не может…
— Любишь? Неужели? Это лестно… Ладно, пошли уж, а то так всю ночь будем говорить… — произнесла Света, поднимаясь с кресла и расстегивая пуговку на поясе своей мини-юбочки.
Глава 24. Саша
Они проснулись почти одновременно, но поутру оказались на противоположных краях кровати. Даже заспанной Света была восхитительна и прекрасна — без сомнения, ночь освежила и ее лицо, и тело, и даже дыхание, словно таинственная Фея оросила каждый участок кожи, каждую клеточку девичьего организма целебным омолаживающим бальзамом, живой водой вечной юности. Лишь глаза ее, только отошедшие от сонного забытья, светили чуть тусклее обычного, но смотреть в них Сергей не осмеливался. Он старался, очень старался быть ласковым, нежным, умелым, припоминая все, что знал по книгам и фильмам, но интуитивно понимал, что не смог подарить красавице даже половину от того наслаждения, которое она обычно получала от своего мужа, более молодого и менее начитанного, но от природы одаренного счастьем дарить женщинам оргазм. И сознание своей никчемности затеняло острым чувством вины, еще сильнее обострившимся с наступлением рассвета, полученное ночью удовольствие обладания прелестным девичьим телом.
Света же, не ждавшая ничего особенного, была, напротив, вполне довольна: пусть все было быстро, пусть не было оргазма, но какую-никакую разрядку она получила — главное, ей ничего не надо было делать самой, а можно было расслабиться и отдаться потоку фантазий о любимом, но далеком муже… И пусть партнер был наивен и неискушен, но в этой неопытности был и свой плюс — иллюзия чистоты и девственности юноши, проявлявшаяся в той трепетной осторожности, в той бережной старательности, с которой он ее целовал, ласкал, гладил… И сейчас, подставляя розовеющее лицо прикосновениям юной Эос, она думала о том, что, возможно, будь она старше, много старше, она могла бы получить настоящее удовольствие единственно от того, что рядом с ней оказался бы юный мальчик-девственник — дрожащий, смущающийся, стыдящийся, чистый и глупый…
«Что же дальше? — размышлял Сергей, глядя на матовое стекло в двери спальни, на котором отражались блики зари. — Будет ли повторение или на этом все закончится? Захочет ли она снова или ограничится единственным актом милосердной агапэ? Что ждет их дальше — дружба или взаимное забвение? Если дружба, то будет ли в ней место телесной близости? Если забвение, то будет ли оно полным? Смогут ли они смотреть друг другу в глаза, не испытывая вины, дискомфортного чувства неудобства? И самое главное — научится ли он когда-нибудь дарить женщине оргазм или же от природы ему уготована судьба быть посредственным любовником?»
— Доброе утро! — полузевая, растягивая слова и грациозно потягиваясь всем телом, нарушила утренний покой девушка.
— Доброе утро! — отзеркалил Сергей тоном потерянной невинности.
— Пойдем завтракать?! — то ли спросила, то ли предложила Светлана.
— Так сразу? Может, тебе сначала надо по своим женским делам? — то ли предложил, то ли спросил юноша несколько суровым тоном.
— По каким таким делам? — игриво переспросила девушка и мягко добавила. — Почему ты на меня не смотришь? Что-то случилось?
— Я плохо выгляжу… — хмуро ответствовал юноша. — Пожалуй, ты права. Я пойду что-ни-то сварганю на кухне, а ты сможешь спокойно одеться…
— Как хочешь… — обижающимся голосом отвечала девушка, плотнее укутываясь простынкой.
Разговор за столом не клеился. Сергей как ни старался, не мог заставить себя глядеть в глаза красавице Светлане, чья прелесть в свете утренних лучей выглядела еще восхитительнее и казалась настолько высокой и недоступной, что вызывала острое чувство собственного уродства. Перемена в настроении юноши не укрылась от девушки, да он и не старался ее скрывать. Оба молчали и медленно ели бутерброды, запивая глотками растворимого кофе. И чем дальше висело ранящее молчание, тем сильнее обоим вчерашняя доверительная искренность казалось сном, а ночная близость — ужасной ошибкой.