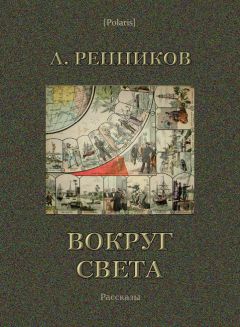Коллектив авторов - Железная земля: Фантастика русской эмиграции. Том I
Почал народ стоять. Стоял за Веру, Царя и Отечество, стоял, пока колени не подносились. Свалился. Лежит.
Приходит Дурак.
— Ты чего, — спрашивает, — лежишь? Вставай–подымайся.
— А зачем? — опять дивится народ. — Поди, опять за Веру, Царя и Отечество стоять?
Дурак смеется ласково.
— Нет, милый, Царя отменили. Насчет Веры и Отечества безразлично. А стоять теперь тебе за Братство, Равенство и Слободу.
Делать неча — встал народ и почал стоять за Свободу, Равенство, Братство. Стоит, а коленки дрожат, земля из под ног уходит — того и гляди свалится.
Дурак добрый. Жалко ему народ. Давай уговаривать:
— Братцы, держись! Друг за дружку держись!
Послушался народ.
Кто кого за чуб, кто кого за бороду. Бабы, те за косы. Держатся крепко, так что у которых даже слезу прошибает.
Не может слез видеть Дурак, надрывается:
— Не в том смысле держаться! Надо так держаться, чтоб
слобода промеж вас была!
Совсем спутался народ, сбился с толку, не поймешь, как это держаться друг за дружку, а между прочим, чтоб сло- бодно было промеж?
Но тут объявился Большевик.
Глаза — Змей Горыныча.
Голос — Труба Иерихонская.
Даром, что сам плюгаш — от горшка два вершка.
Объявился и сразу декрет:
«Которые не трудящие — вон!»
А которые трудящие — тем за Третий Интернационал стоять.
Чего это такое — народ понять не может, да делать нечего. Понатужился и приспособился.
Не то что земли под ногами не чует, а и ног–то самих будто и нету совсем, но, между прочим, стоит.
Декрет!
Видит Большевик, народ ничего, покорный, только что оченно тяжко ему за Третий Интернационал стоять — пожалел.
Облегчать и ослобонять стал.
От хозяйства ослобонил.
От хлеба, от скотины всякой ослобонил.
От Бога ослобонил.
От мозгов ослобонил.
От сродственников разных, отца, матери и протчих ослобонил.
Хотел еще от чего–то ослобонить, только видит, что народ ажно в пар обернулся и уж и за землю не держится, а в царство небесное норовит.
Большевик, не будь дураком, подобрал концы неба, да в узел связал.
А пар–то внутрь пузырем узел раздул.
А пузырь–то вот, гляди, сорвется — и в лет.
Ну, Большевику того только и надо.
Живо корзинку к пузырю приладил — лететь протчие планиды под Третий Интернационал уровнять. Да только что собрался — шасть и Антихрист тут как тут.
Час, вишь ты, светопреставленья приспел.
Глянул Антихрист на дела большевика, да хлоп себя ладошками по ляшкам, да к Большевику:
— Ты што жа это ты, охальник этакой, с народом поделал? Сколько время народ светопреставленья дожидался! Может, тем только и жив был, а ты ему дождаться не дал! Ну, не грубиян? Да знаешь, за это тебя… С кашей съесть мало!
Осерчал Антихрист и без каши проглотил Большевика.
Да шершавый был Большевик. Подавился им Антихрист и помер.
Тут сошел на землю сам Господь Саваоф.
А земля вся голая — ни одного человека не видать. Только пузырь небесный над землей треплется. А в пузыре пар один — душа человечья.
Заплакал–зарыдал Господь Саваоф — жалко стало ему человеков своих.
Да ведь и то поди, кажному известно, как радовался сердешный, когда сотворил человека и Еву. Как дите малое радовался.
А тут, прости Господи, заместо образа и подобия —
— Пар!
Заплакал–зарыдал Господь Саваоф.
Обнял, горюн, пузырь тот, к сердцу прижал, да так крепко, ажно пузырь лопнул и пар весь как из бани.
Только его и видели.
А. Куприн
СУД
Когда же настал срок последнему дню, то вострубил Архангел в золотую трубу, сотрясая небо и разверзая землю. И восстало из несметных могил множество мертвых, наполнявших землю, и облеклось плотию. С живых же спали ветхие земные одежды. И все они, живые и мертвые, предстали на Страшный Суд нагие, подобно прародителям до грехопадения.
Нелицеприятный Судия восседал на престоле из облаков, осененных радугою и пронизанных молниями. И были двое великих отверстых врат по сторонам престола. Одни, направо, вели в зеленый, сияющий сад, а из левых шел крутой спуск в дикое и черное ущелье, мгла которого изредка озарялась колыханьем багровых подземных огней.
Посредине же возвышались серебряные весы с золотыми чашами, и приставлены были к обоим концам коромысла два ангела, взвешивать добрые и худые дела человеческие. Подходили к тем весам поочередно все рожденные от женщины и, выслушав свой приговор, шли, по мере содеянного ими, направо, в жилище вечной радости, или налево, в геенну огненную…
И вот привели перед престола мужика. Весь он грубый, потресканный и темный, как земля: весь в коросте и мозолях. Но только держит себя крепко и безбоязненно. Ангел ему шепчет на ухо:
— Какой ты несуразный. Здесь трепетать полагается.
Мужик ему отвечает:
— А чего мне бояться. Довольно мы пред земными судьями натрепетались. Стою перед единым Судьею праведным. Весь в его мудрой воле.
Судия же спрашивает:
— Что ты делал, мужик?
— Мы–то? Пахали, боронили, сеяли, косили, молотили, за скотиной ходили… Все вокруг хлебушка… А которые малоземельные, или земля неродяща, те по городам добывали. Плотника, каменщики, извозчики, землекопы, банщики. Мало ли чего еще… Потом — кровью всю Россию полили.
— Сам–то всегда ли сыт бывал?..
— Со всячиной, Батюшка. Часом с квасом, порой с водой. Случалось, и лебеде бывали рады. Мы не господа.
— Грешил много ли?
— Без конца и без числа, Владыко. Пьяницы мы, и воришки, и снохачи, и обманщики. Да ведь, Господи, — темный мы народ, серый, ничему не ученый… все одно, как слепые щенята… живем в грязи, да в бедности…
— На Бога роптал?
— Этого, пожалуй, не бывало. Больше говорил: Божья воля, Бог дал, Бог взял.
— Иди же с миром! — сказал Судия. — Много ты потрудился, надо тебе отдохнуть. Святитель Николай! Иди–ка сюда, прими земляка.
Подошел седенький Угодник в стареньких ризах, обнял мужика и повел в святые ворота. И издали был слышен мужиков голос:
— Ах, Микола Милостивый, какие у вас овсы–то ядреные!
После мужика пришел солдат. Весь простреленный и порублены!. Белая рубаха на нем — в ночь перед сражением чистую надел, чтобы к Богу исправнее явиться — вся в крови.
Спрашивает Судия:
— За что дрался, солдат?
— Так что за Веру, Царя и Отечество, Господи.
— Много ли народу побил?
— Не могу знать, Господи. Куда пуля летит — не видно, а в атаке нешто сосчитаешь?
— Грешил много ли?
— Грехи мои солдатские все перед Тобою, Господи.
— Лежачего же добивал ли?
— Никак нет, Владыка. Мы воины православные.
— Пленных не обижал ли?
— Никак нет. Сам, бывало, не доешь, а ему и хлеба, и каши, и порцию. Ему труднее.
— Начальники к тебе всегда ли были справедливы?
— Всякое бывало. А ты им прости, Всемилостивый.
— Молодец ты, солдат, — сказал Судия и позвал громко:
— Воины мои любезные, Георгий Победоносец и ты, российский витязь, князь Невский Александр. Возьмите же воина сего и отведите с почетом в рай. И двойную порцию ему.
— Покорнейше благодарю, Господи! — воскликнул солдат.
Потом приблизился к Престолу страшный разбойник. Пал он лиц, лицом на землю, и завопил громко:
— Не спрашивай меня, Господи! Тебе все известно! Смердят мои грехи к небу и вопиют о возмездии без всякой жалости! Молю тебя об одном: пошли меня туда, где огонь пожарче и где дьяволы самые свирепые…
Судия же говорит:
— Ведомо мне: был однажды пожар, и в доме, объятом пламенем, осталось малое дитя, еще не умевшее ходить. Не ты ли, разбойник, бросился тогда в огонь и вынес младенца невредимым, окутав его своей одеждой?
— Господи! — вскричал разбойник. — Не засчитывай мне этого дела! Ведь не одна любовь меня толкнула тогда лезть в огонь. Кругом люди стояли. Хотелось своей храбростью пофорсить.
— А почему же имя свое утаил? Почему скрылся незамеченным?
— Да стыдно стало, Господи! Разбойник, душегуб и вдруг. Нет, не милуй меня, не милуй, Всемилостивый.
— А не ты ли после ушел в монастырь, приняв ангельский чин? Не ты ли вериги носил и власяницу? Не ты ли денно и нощно омывал слезами покаяния свою совесть? Не ты ли в схиму постригся и возложил на себя обет вечного молчания?
— Господи! Свою душу я спасал, свою только душу! Но ни одну загубленную мною душу не вернули мои молитвы к жизни. Ничего не весит все мое покаяние перед единой моей злодейской мыслью, Всеблагой!
Тогда спросил Судия громко:
— Вы все, невинно загубленные сим разбойником, приявшие от него смерть без святого покаяния, прощаете ему?
Как будто вздох пронесся, точно ветер зашелестел.