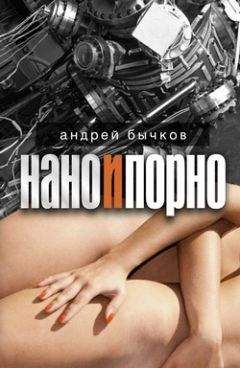Вадим Сухачевский - Загадка Отца Сонье
Он узнал меня по сути сразу и спросил – по-моему, даже несколько обрадованно:
— Диди, это ты?..
Я же застыл на месте и не отвечал ни слова. И дело тут было даже не в той надписи, что все еще свербела у меня в мозгу, и не в черном изваянии, на которое я нет-нет да и косил чуть боязливо взгляд, и не в странном (это слишком мягко говоря) облачении отца Беренжера. Зная, как трепетно мой кюре всегда относился к телесной чистоте, я вдруг ощутил то, что в первый же момент, как он подошел, поразило меня даже, пожалуй, поболее, чем все перечисленное. От этого чистюли, от моего преподобного, от него… тут я никак не мог ошибиться – от него пахло!.. Нет, это не был запах каких-либо нечистот, которого он так страшился всегда, и не запах тления умирающего тела (уж теперь-то, на сотом году, я знаю, как оно пахнет), — то был какой-то другой запах, которого я пока никак не мог распознать.
Добавлю, он, запах этот, потом, с годами, все более окутывал отца Беренжера. После всех событий я не раз думал – быть может, это именно он, а вовсе не смрад мертвечины, однажды заставил сбежаться к его восседающему в кресле праху и выть на всю округу одуревших псов?..
Не знаю…
Но в тот момент, в храме, именно это меня более всего поразило. От отца Беренжера пахло! Этого не должно было, этого просто не могло быть!
Разъяснения отца Беренжера с моим небольшим отступлением в совершенно иные времена и иные края
— Да это же ты, Диди, — сказал отец Беренжер, но не тот, прежний, а совсем другой отец Беренжер, отец Беренжер, от которого пахло. — Хотя ты сильно возмужал и изменился, я тебя сразу узнал!
Пришлось пробормотать – мол, да, да, это я.
— Жаль, что ты тогда сразу уехал, — продолжал преподобный, — я бы нашел для тебя подходящее занятие. ("Могу себе представить!" – про себя подумал я.) — Он тем временем проследил за моим взглядом, непроизвольно переметнувшимся на черное изваяние, и сказал: — А, любуешься моей "Черной Мадонной"? Впрочем, это и не Мадонна даже, а… После, ежели захочешь, расскажу… Согласись, великолепная скульптура! Такие когда-то стояли у нас чуть не во всех храмах, пока с некоторых пор их не начали варварски уничтожать. В мире осталось совсем не много подлинных экземпляров, из них самый лучший по сей день выставлен в музее Вервье близ Льежа, ну а то, что ты здесь видишь – его точная копия, выполненная по моему заказу, так же, как и оригинал, из черного оникса, превосходным скульптором… Хотя его имя едва ли что-нибудь тебе скажет… Ну, а как тебе вообще, Диди, наш обновленный храм? — спросил он.
Я что-то промямлил насчет надписи над входом – негоже, де, по-моему, так отпугивать прихожан.
— Да объяснял, объяснял я им! — Отец Беренжер в сердцах махнул крылом своего халата (не сутаной же, в самом деле, это диво называть!) — Столько раз объяснял, что удивляюсь, как язык не отсох!.. Но тебе же известно, как они упрямы – ничего не желают принимать в свои задубевшие головы!… Ну а что бы ты написал, к примеру, у подножия Голгофы? "Сие место прекрасно" – так, что ли?.. Знал бы ты, сколько зла было сотворено в стародавние времена на этом самом холме, даже внутри этого древнего храма. Особенно в пору Альбигойской войны.[36] Тут, поверишь ли, прямо в храме резали людей! Это их кости (ты помнишь?) усеивали некогда сей холм. Кости-то я нынче перезахоронил, а памятью о них – вторая надпись, которую ты едва ли смог разобрать. Там я велел выбить слова: "КАТАРЫ, АЛЬБИГОЙЦЫ, ТАМПЛИЕРЫ – РЫЦАРИ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ" – в память об убиенных.
— Но ведь они – еретики… — пробормотал я – точь-в-точь как некогда моя тетушка.
— Да, считались до некоторых пор таковыми, — кивнул отец Беренжер. — Но и в нашей Церкви, хотя и медленно, но все же происходят некоторые перемены. Пока это, правда, широко не афишируется, но у меня уже есть письмо из Ватикана, из папской канцелярии, в котором говорится, что вопрос об их еретичестве нынче находится в стадии пересмотра. Так что, полагаю, скоро в этой надписи никто не усмотрит никакой крамолы.
А в халате этом вашем, господин кюре? А в венчании с Мари Денарнан – при вашем-то сане?..
Но это к слову. А насчет этих надписей – поверил ли я ему в тот момент?..
6
И тут хочу сделать одно, по-моему, уместное отступление – скачок лет на семьдесят вперед, вполне посильный для моей прыгающей, как молоденькая, памяти.
Пройдя российский Ад, имя коему было на здешний манер "Колымлаг", я волею судьбы очутился в российском Чистилище, именовавшемся тут "101-й километр". Сие означало, что я не смею приближаться на меньшее расстояние к большим городам. Вероятно, до тех пор, пока не очищусь полностью, — знать бы еще, от чего, от своего богопроклятого здесь Идеализма, должно быть.
Ах, да что там большие города! Крохотные плевочки на карте этой необъятной страны, которую, обретя в своем Чистилище подобие свободы, я хотел получше узнать.
Старость еще не давила своею тяжестью так сильно, как сейчас, а после пережитого Ада с его чертями-конвоирами, воспрещавшими ступить по своей воле в сторону и на шаг, я был особенно легок на передвижение, если таковое тут, в Чистилище, мне позволяли.
И таки позволяли иногда. Так, однажды с группой передовиков-колхозников (а ваш покорный слуга числился, клянусь, передовиком-механизатором – так-то! — колхоза имени Кого-то Уже Невспоминаемого), с группой этих самых возлюбленных Материализмом передовиков, я был однажды премирован туристической автобусной поездкой в располагавшуюся неподалеку Оптину Пустынь, место, где когда-то заживо сожгли некоего их ересиарха, старовера (нечто вроде тех же наших катаров), первосвященника Аввакума.
Там, в Оптиной Пустыни, действовала какая-то своя аэродинамика, из-за которой происходило выветривание кладбищ, так что белые человеческие кости лежали на поверхности земли, будто уже услышавшие зов труб Господних и приготовившиеся к Страшному Суду.
Нашим гидом добровольно вызвался быть тамошний оптинский паренек лет двенадцати с запомнившимся мне до сих пор апостольским именем Фома, от природы наделенный, кстати, немалым красноречием. И вот, пока наши передовицы-колхозницы в оптинском магазине, что располагался неподалеку от погоста с белеющими там костями, выстаивали очередь за подсолнечным маслом (которого у нас, в колхозе имени Кого-то, отродясь не было, а в Пустыни почему-то имелось), я вместе с тремя-четырьмя оставшимися возле магазина покурить передовиками-колхозниками прислушивался к речам всезнающего Фомы.
Вначале он поведал нам о самих этих староверах, о том, как их сжигали во времена оны. Хотя и сжигавшие, и сжигаемые, как я сумел понять, в равной мере исповедовали неправильный, с точки зрения Фомы, Идеализм, сжигавшим отрок почему-то больше симпатизировал. Затем довольно доходчиво рассказал, как сжигали здесь, в Оптиной Пустыни, самого Аввакума с тремя единоверцами, привязав их к четырем углам деревянного сруба. Далее из его рассказа следовало, что, когда пламя уже лизало плоть первосвященника, тот произнес свои знаменитые слова… Для более внушительного их воспроизнесения Фома даже поднялся на импровизированный амвон – на ступеньки магазина.
— "Месту сему быть пусту", сказал поп, — поведал передовикам-колхозникам с этого амвона Фома.
— "И завоют трубы… какого-то там Суда", — добавил Фома страшным голосом.
— "И кости людские выйдут из земли!" – тем же страшным голосом продолжал этот не верующий ни во что, кроме своего Материализма, Фома.
— "И будут лежать там, овеваемые ветрами!" – войдя в раж и уже сам завывая, как трубы Господни, продолжал пугать Фома передовиков-колхозников.
Те невольно покосились на погост, где, подобно Фоме, завывал ветер и белели, действительно, кости, овеваемые им, как и было предсказано сожженным ересиархом.
Однако на том Фома останавливаться не стал. Он, движимый своим Богом Материализмом, поднялся еще на ступеньку выше и произнес уже не страшным, а мальчишески задорным голосом:
— Но мы, товарищи передовики!.. — сказал Фома.
— Мы как материалисты!.. — продолжал Фома.
— Мы, товарищи, разумеется, — закончил Фома, — этим поповским байкам, конечно же, не верим! — и, не глядя на погост с костями, куда-то по-быстрому ушагал.
После, оказавшись уже, по здешним меркам, в Раю, в моем нынешнем крохотном, три на четыре с половиной метра, с кухонькой и совмещенным санузлом раю на окраине Москвы, не раз вспоминал этого самого Фому, к отроческому возрасту уже закосневшего в нежелании видеть очевидное.
И думаю сам в свои нынешние без малого 100: а поверил ли я тогда, в храме, отцу Беренжеру? Или не поверил этим поповским байкам?
Так, наверно, и буду думать, пока память моя не перекочует в новое Чистилище, за свой 101-й километр, то есть уже, наверно, в небытие…