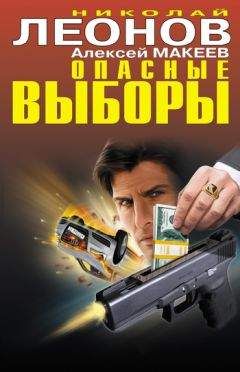Вионор Меретуков - Тринадцатая пуля
А я мечтаю дожить до перемен. До перемен — хотя бы в своей жизни… Я еще на что-то надеюсь. И хочу успе
… Когда я впервые осознал, что смертен, я был потрясен, и ощущение этого потрясения осталось со мной на всю жизнь; оно нет-нет да и приходит иногда — в страшные ночи после недельных пьянок, когда обостряются чувства, обнажается сердце и на душу опускаются сумерки.
Когда-то меня ужаснула до умопомрачения, до душевных судорог, до исступления, до мозгового паралича сама мысль, что настанет миг, когда меня не станет. Долгое время я по-детски верил, что это будет очень-очень не скоро, так не скоро, что, наверно, не будет никогда…
Не может быть, чтобы не стало моего бессмертного "я"! Не может быть, чтобы я бесследно исчез. Чтобы исчезли мои мысли, а мир продолжал бы, ничего не заметив, как ни в чем не бывало существовать и двигаться к некой цели, предначертанной кем-то свыше. Это не справедливо! Нет, я не хочу!..
Я был юн и глуп и еще не читал книг, в которых содержались подобные мудрые и одновременно наивные мысли. И авторы, высказав эти мысли и так ни черта не поняв, в изумлении и неведении давно покинули сей мир.
Легко было тем из них, кто имел веру в Бога, им, верующим в бессмертие души, помирать было одно удовольствие. Куда хуже тем, кто не верит даже в черта.
Позже, прочитав некоторые из этих книг, я понял только то, что они, авторы этих книг, — это одно, а я — это совсем другое: они, бедолаги, все-таки померли, а я до конца не могу умереть! Хотя и об этом уже было сказано много лет назад одним солнечным поэтом, скончавшимся слишком рано даже для своего сурового времени.
…Я долго верил, что не могу умереть, Это была моя тайна. Я никому ее не открывал.
Друзья и враги считали меня отчаянным храбрецом. Глупцы, они не знали, что природа моего бесстрашия невероятно проста. Она состояла в твердом знании того, что со мной не может ничего случиться, ибо я бессмертен!
Быть храбрым так легко! И, сопровождаемый завистливыми взглядами менее отважных сверстников, не владевших такой тайной, я в детстве совершил столько бездарно глупых и ненужных героических поступков, сколько не снилось и Гераклу!
Когда я теперь вспоминаю кое-что из того, что тогда вытворял, мои ладони становятся мокрыми. И мне становится стыдно. Мне жалко того самонадеянного юнца, каким я был много лет назад…
Мне жалко того мальчика, который попусту рисковал жизнью, думая, что ничего с ним не случится. Мне жалко его родителей, которые, слава Богу, ни о чем не догадывались.
Безрассудно рискуя жизнью, я не думал о них, как не думал и том, каково бы им было, если бы со мной что-нибудь стряслось… Но тогда со мной ничего страшного не случилось. Я не знаю, заслуживаю я того или нет, но, видимо, какая-то незримая ладанка все же хранила меня…
…Чувство страха пришло ко мне тогда, когда я его не ожидал. У меня был враг. Звали его Ленька.
Ленька был тщедушен, слаб и легок как пар над горшком, но обладал несокрушимым духом великого бойца. Теперь я понимаю, что к моменту встречи со мной он уже прошел путь от не ведавшего страха мальчишки до воина, этот страх познавшего и преодолевшего.
Его подвиги потрясали воображение. До некоторого времени он был единственным, кто забирался на вершину тридцатиметровой трубы котельной, где почти все скобы, по которым он карабкался, опасно шатались, а некоторые и вовсе вынимались из пазов. Котельная эта давно не работала, а труба дожидалась сноса.
Мы с Ленькой часто дрались. Несмотря на то, что он был старше меня на год, в личных встречах всегда побеждал я. Не потому, что я сам был уж настолько силен физически, а потому, что слишком слаб был соперник. А инициатором драк всегда выступал мой маломощный, но упорный и несгибаемый противник.
Очень скоро я без труда повторил все его многочисленные подвиги, в чем-то даже превзойдя своего врага.
Например, у меня за плечами уже был такой подвиг как побег с офицерскими сапогами, выкраденными из общественных бань, и неудачная погоня несчастного майора, который босиком, в неполной парадной форме, с криком "пристрелю гада!" гнался за мной по весенним лужам, лавируя между гудящими автомашинами.
Были и другие проделки, которые, учитывая размеры наказания в случае поимки героя, также могли проходить по разряду подвигов.
Оставалась проклятая труба. Впрочем, когда я при большом стечении народа из числа несовершеннолетних почитателей и почитательниц моего молодечества уверенной походкой чемпиона подходил к основанию трубы, то никакого волнения и страха не испытывал. Что мне какая-то труба, если я оставил в дураках вооруженного пистолетом майора!..
Мне нечего было бояться, я-то знал, что со мной просто ничего не может произойти!
Поначалу все шло прекрасно, я был ловким и сообразительным мальчиком, и, хотя железные скобы действительно держались на честном слове, я, порядком устав, минут за десять достиг вершины объекта.
Удовлетворенный и счастливый, я сел на закопченный, воняющий паровозным дымом край трубы, вытер рукавом пот и весело посмотрел вниз.
Даже сейчас, спустя много лет, при воспоминании об этом мгновении мне становится жутко!
…Я еще слышал долетавшие до моего слуха восторженные крики мальчишек и девчонок, но это уже никак не трогало меня, я испытывал незнакомое чувство, и это чувство оказалось такой невероятной силы, что затмило в один миг все, чем я жил до этой минуты.
Для меня перестало существовать абсолютно все, кроме этого всепобеждающего чувства. Его даже нельзя было назвать чувством, — так велико было мое переживание! — это был беспредельный ужас, и он поглотил меня всего без остатка.
Я почувствовал тошнотворную слабость, и весь покрылся потом. Чтобы не упасть, я попытался руками как-то уравновесить свое вдруг ставшее непослушным тело и уперся ладонями в кирпичную поверхность трубы. Я не знаю, как долго я просидел так, может, лишь мгновение.
Страх лишил меня воли, он пронизал меня насквозь, добравшись до глубин пораженного им сознания. Казалось, я весь состоял из животного ужаса…
На какое-то время я потерял способность мыслить… Всеми своими детскими силами я боролся со страхом. Но страх казался непреодолимым…
Я даже не был в состоянии крикнуть; у меня, я чувствовал это, дрожала съехавшая набок челюсть и был парализован, как при анестезии, язык… Потом я начал что-то чувствовать.
Я почувствовал, что привыкаю к страху. Это было новое ощущение. Я попытался разобраться в этом ощущении. Появилось ощущение реальности.
А реальность была такова, что я уже некое время сидел неподвижно на невероятной высоте, внизу находилась ожидавшая своего кумира восторженная толпа; был там и мой закоренелый враг Ленька, который, наверно, сейчас скалит зубы в предвкушении моего поражения.
И реальность была такова, что хочешь, не хочешь, а слезать-то надо! Не век же здесь, на этой окаянной трубище, куковать!
Надо было на что-то решиться. Но руки не повиновались мне. Много позже я узнал, что находился в состоянии каталепсии.
Понадобилось чудовищное усилие, чтобы оторвать совершенно одеревеневшие ладони от ставшей вдруг скользкой кирпичной кладки… Но я сделал это усилие. И дальше было легче…
…Спускался я осторожно и с достоинством. Я уже был опытным, испытанным бойцом, познавшим страх и преодолевшим его.
И вернулся к своим восторженным почитателям совершенно другим человеком. Наверно, я стал старше сразу на несколько лет. Я пытался найти глазами Леньку, но того нигде не было видно.
Главные завоевания этого восхождения стали очевидны несколько дней спустя, когда я после долгих поисков сумел найти майора и вернуть ему сапоги…
И хотя осчастливленный майор проводил меня затрещиной, у меня хватило ума расценить эту затрещину как заслуженную и справедливую награду за глупость и ложное самомнение.
…С годами мои мысли о смерти приобрели совершенно размытый, дискретный характер, и временами я опять начинаю верить в собственное бессмертие, а временами удивляюсь, что живу, и не могу понять, я ли это или кто-то другой под моим именем месит ногами пространство, а сам я давно уже умер!..
— Несчастный ребенок, — услышал я Лидочкин голос.
Я отлепился от деревянного забора и, взяв девушку за руку, привлек к себе.
— Твое место в сумасшедшем доме, — сказала она и, увидев мою удивленную физиономию, пояснила: — ты стал думать вслух.