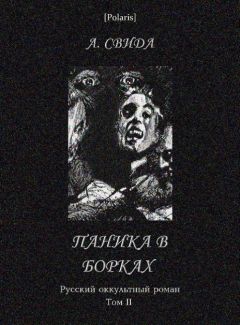Александра Свида - За закрытыми ставнями
— Но вы не брали его?
— Нет.
— Ты это хорошо помнишь?
— Хорошо.
Зенин тяжело вздохнул. Сложил шаль, встал и, извинившись за беспокойство перед Надеждой Михайловной, вышел.
«Сорвалось! — подумал он на улице. — Ведь эта шаль была бы главной уликой и явилась бы оправданием Брандта. Убил, очевидно, тот, кто воровал. Возле куста роз обнаружен глубокий, грубый след. Преступник, очевидно, оступился и оперся узлом на куст, воздушная ткань зацепилась за шипы, и большой кусок ее остался на розах. Но где ж этот кусок, где?!.. Кому понадобилось его снять и когда?! Бедный Брандт, неужели я окажусь бессильным не только поймать убийцу, но и оправдать невинного? А эта несчастная его мать! Умоляет заходить к ней, но с чем я пойду к ней, с чем?!
А этот гениальный следователь Зорин! Самомнительная тупица! «Порезанная рука и подходят следы». Вот именно «подходят». Тут слепой увидит, что был еще третий, который тянет правую ногу. Но убивал не он, а, несомненно, владелец грубых следов. Но что ж, в таком случае, делал там этот третий? И кого испугался убийца? Вот вопросы, от которых можно сойти с ума. Кнопп требует отчета. Ну что я ему скажу? Проклятое дело!»
Глава 17
Болтовня на кругу
Шесть часов вечера. Сейчас начнется музыка.
На кругу, в Борках, собирается публика. Дети, наряженные, как куклы, няни, бонны, гувернантки.
Все это авангард, группирующийся на детской площадке.
Вот три англичанки. Короткие пестрые юбки открывают большия, плоские ступни, лица длинные, зубы крупные и все три, как одна, некрасивые: фигуры вытянутые, держатся чопорно, на все окружающее смотрят пренебрежительно. Сели отдельно на самом удобном месте. Кругом себя разложили ридикюли и зонтики, чтобы близко никто не сел.
Полился английский характерный говор.
— Ишь расселись, куклы заморские, — покосилась на них толстая нянюшка.
— Они уж всегда так–то, — откликнулась другая. — Принцессы — не принцессы, а сиятельные княгини — это верно.
— И ведь никогда ни с кем не заговорят.
— Это уж где им.
— А может, не говорят потому, что по–нашему не умеют? — примирительно вступилась старушка.
— Да они не хотят. Всякая там французенка или немка, если ей что нужно, старается тебе как–нибудь объяснить, а эта заболтает по–своему, руками замашет перед самым твоим носом, голову задерет кверху да и пойдет, а ты понимай ее, как знаешь.
— Да что мы, барыни к ним должны подлаживаться, а не они к барыням. Вон средняя–то у наших соседей живет, так горничная рассказывала: чудит–чудит!
— Что ж она делает?
— Что? — Да перво–наперво в те две комнаты, где она да дети спят, никому ходить не велит. Убери, дескать, замкни, а ключ ей отдай.
— Что ж она, золото, что ли, там прячет?
— Какое золото! Просто куражится. Детей замучила. Прежде они по утрам с барыней да с барином чай кушали, а теперь овсяную похлебку, либо кашу какую.
— Ай–ай–ай! И едят?
— Плачут, а едят. Начинают привыкать, говорит. А по зимам комнаты, почитай, не велит топить, белье на мороз вывешивает, да всего и не перескажешь.
— Ай–ай–ай, вот мучительница! И для чего только господа их выписывают?
— Для форсу, я так думаю, больше.
— У наших старшеньких французинка. Ну, эта ничего, над детьми не издевается. Все это — тру–ля- ля, да ля–ля–ля, а сама хвостом виль–виль. Сынку–то старшему голову кружит, а барыня–то и не догадывается.
— Где им! — засмеялась другая. — У нашей–то муж с мамзелью амуры завел, и то сама не видит. А нам–то смех, иной раз животики надорвешь, глядя, как он ее околпачивает!
— Ну, и сами–то барыни, небось, в долгу не остаются, так ли мужьям рога насаживают, — откликнулась третья. —
Поглядите у Батюшкиных, сам и сама белобрысые, а Бобочка–то черненький, как жук, да и личиком похож на мусью, что у них в прошлом году барышень старшеньких музыке обучал.
— Светопреставление скоро! — вздохнула старушка, забрала своих скромно, но чистенько одетых деток и отошла с ними подальше от назидательных разговоров.
Вот появляются и мамаши.
Идут молодые дамы одни и с мужьями. Легкомысленно веселые с кавалерами, а степенные мамаши с дочками на выдачу замуж.
Почти все разодеты по последней моде. Шляпы, перчатки, туфельки, зонтики, сумочки — все по картинке.
Занимают места перед эстрадой, делают вид, что слушают музыку, а главное, что ее понимают, сами же незаметно осматривают туалеты друг друга.
Жутко за мужа, у которого жена окажется проще или не так модно одета. Придется ему провести не один неприятный час.
— Посмотри, душечка, — шепчет дочке одна мамаша, — Агатова свою Лизу как чучело огородное разрядила.
— О, мама, Лиза не теряет и не выиграет от костюма.
— Однако, за ней кавалеры увиваются.
— Кокетка, вертушка и кривляка.
— Ну, милая, мужчинам это нравится. Я давно тебе говорю.
— А я говорю, мама, что требую от будущего мужа оценки моего ума и развития.
— Смотри, не останься в старых девах с умом–то. По опыту говорю тебе: мужчины любят, чтобы барышня жеманилась, глазки им строила, охи да ахи разводила.
— Ш–ш–ш… — зашипели на них соседи.
— Заговори с своим соседом, Софи, — толкнула другая мамаша свою дочку. — Это молодой профессор и неженатый — я уж узнала. Но только придумай что–нибудь чувствительное, а главное, умное. Профессор не офицер, чтобы болтать с ним всякий вздор. Будет уж с меня этой военщины, — все бедняки и приданого ищут.
Дочка покосилась на профессора. Ничего, не дурак. Уронила сумочку…
Поднял.
Поблагодарила самой очаровательной из своих улыбок, мило опустила глазки и томно прошептала:
— Когда я слушаю музыку, я положительно уношусь с земли на небо. Особенно люблю Рахманинова — это мой любимый композитор. Вы тоже его заслушались?
— Сегодня в программе его нет совершенно. Это увертюра Глинки к «Руслану и Людмиле».
— Ах, я ошиблась! Они так похожи! Мама, встанем, мне жарко… Дурак и нахал! Какой же офицер позволил бы себе сказать барышне подобную грубость!
По кругу носится Волжина.
— А знаете, душечка, — наклонилась она к одной из разряженных дам, — Зенин ходит по всем домам и показывает платок, которым убийца вытирал свои руки, а потом в нем же уносил драгоценности.
— Что вы, с чего он взял, что это именно тот же платок?
— Я подробностей еще не успела расспросить, завтра узнаю.
Эта уже передает следующей:
— А знаете, Марья Петровна, Зенин нашел–таки следы убийцы. Удивительно способный молодой человек.
Марья Петровна передает Александре Ивановне:
— Зенин проследил убийцу, — он уже арестован.
— Что вы? вот интересно!
— Нужно узнать от Плевина, когда разбор дела. Я так люблю уголовные процессы.
— А Брандт? Неужели его выпустили?
— С какой стати! Хотя… сообщенные мне сведения касались только поимки убийцы.
Прерывая разговор, Марья Петровна поспешила занять свое место перед эстрадой.
— Ах, Боже мой, что она сказала? Марья Петровна! Ушла, несносная! Кажется, она сказала про Брандта, что он скончался? Ну да, конечно, я ясно слышала. Вот интерес
ное сообщение. Николай Николаевич, здравствуйте. Хотите, сообщу вам поразительную новость?
— Пожалуйста.
— Зенин поймал убийцу.
— Слава Богу! Все убеждены были в невиновности Брандта. По одному подозрению и вдруг томить человека.
— О, Брандту уж все равно: он умер.
— Когда, кто вам сказал?
— Слух идет, кажется, от Плевина.
— Тогда это источник очень серьезный. Жаль Брандта, а еще больше его больную старушку–мать.
В глубокой задумчивости пошел Николай Николаевич к трамвайной станции, где еле втиснулся в вагон, переполненный возвращающейся публикой, и случайно оказался рядом с корреспондентом очень распространенной утренней газеты.
— Что вы такой сумрачный, Николай Николаевич? Или вам чересчур бока намяли? — улыбнулся корреспондент.
— Какие там бока — не до них. Перед глазами так и стоить несчастная Марья Николаевна Свирская.
— А что? — насторожился корреспондент. — Нашли неопровержимые улики против ее сына?
— Хуже, батюшка: Брандт предстал перед Судьей, который видит сердца и не нуждается в уликах.
— Это слух на кругу?
— Нет, источник этого известия — Плевин.
— Ого!
— Ах, какое несчастье! Процесс потерял весь свой интерес, — раздался возглас молоденькой дамы.
— Почему? — удивился Николай Николаевич.
— Помилуйте, да ведь Брандт, говорят, беллетрист и красавец и вдруг на его месте окажется только какой–то предполагаемый мужик. Фи!..
Обрадованный приобретенными столь неожиданно сенсационными новостями, корреспондент выпрыгнул при первой остановке трамвая.