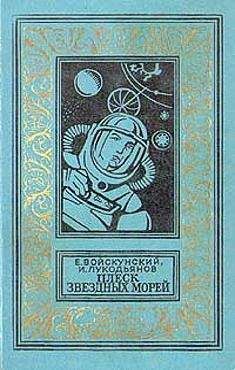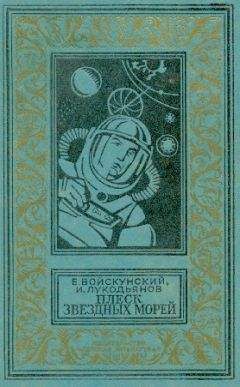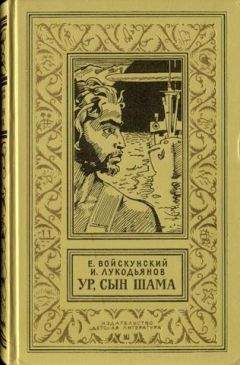Евгений Войскунский - Очень далекий Тартесс (др. изд,)
— Здравствуй, Андра, — сказал я.
— Здравствуй, Улисс. Будешь участвовать в играх?
— Ещё не знаю. Ты теперь живёшь здесь?
— У нас дом с садом в спутнике-12. Это к северо-востоку отсюда.
— Как поживают родители? — спросил я.
— Они… — Андра запнулась. — Отец снова на Венере.
Я читал, что Холидэй улетел на Венеру в составе комиссии Стэффорда. Значит, он ещё не вернулся. Что-то затянулась работа комиссии, и никаких сообщений оттуда…
— Как он там? — спросил я как бы вскользь. И тут же понял, что ей не хочется отвечать. — Ну, а что ты поделываешь?
— О, я после праздников улетаю в Веду Гумана.
Веда Гумана — гигантский университет, в котором было сосредоточено изучение наук о человеке, — находилась неподалёку от нашего Учебного центра космонавигации.
— Я поступила на факультет этнолингвистики. Ты одобряешь?
Я кивнул. Шла огромная работа по переводу книг со старых национальных языков на интерлинг, и если Андра намерена посвятить себя этому делу, ну что ж, можно только одобрить.
Я понял, что ей хочется расспросить обо мне, но рассказывать ничего не стал. Да и, в сущности, не о чём было рассказывать.
Мы сели в аэропоезд и спустя десять минут очутились на олимпийском стадионе.
Это был не самый крупный стадион в Европейской Коммуне, но и не самый маленький. Его чаша славно вписывалась в долину, окаймлённую зелёными холмами. С одной стороны к стадиону примыкала Выставка искусств — буйный взлёт фантазии, загадочная улыбка, радостный сон ребёнка, уж не знаю, как ещё назвать эти лёгкие строения, кажущиеся живыми существами.
Над стадионом вспыхивали и гасли разноцветные буквы, складывались в слова, рассыпались, плясали. Каждый мог зайти в специальную кабину и набрать нужное слово или фразу — и буквы послушно выстроятся над стадионом. Сейчас висело в голубом небе: «Я подарю тебе, дорогая, лучшую из своих молекул». Это был припев из песенки Риг-Россо в последнем стереофильме.
Гомон, смех, песни. Пёстрый хоровод трибун…
В толпе, подхватившей нас, затерялись Андра и её подруги.
Нас с Робином понесло к западным трибунам.
— Кто эта девушка? — спросил Робин.
— Андра, — сказал я и повторил ещё раз: — Андра. Знаешь что? Мы будем состязаться.
— Ладно. Но когда ты начнёшь петь, жюри попадают в обморок.
— Ну и пусть, — сказал я легкомысленно. — Пусть падают, а я буду петь.
Мы пошли к заявочным автоматам, и вдруг, откуда ни возьмись, бурей налетел на нас Костя Сенаторов.
— Ребята! — закричал он во всю глотку и принялся нас тискать в объятиях. — Тысячу лет! Ну, как вы — летаете? А у меня, ребята, тоже все хорошо! Инструктор по атлетической подготовке. Здорово, а? Хорошо, ребята, замечательно! Знаете где? В Веде Гумана!
— Молодец, Костя! — сказал Робин. — Я подарю тебе лучшую из своих молекул.
Костя зашёлся смехом.
— Вы — заявлять? Правильно, ребята, замечательно! Ну, увидимся ещё! — Костя нырнул в толпу.
А я вспомнил, как Костя бил кулаком по рыхлой земле, и лицо у него было страшно перекошено, и он завывал: «Уй-ду-у-э…» Молодец Костя, не раскис, нашёл себя в новом занятии. Не всем же быть пилотами.
Робин уже опять перешучивался с девушками. Я потащил его к заявочному автомату. Запись заканчивалась, а атлетов, желающих состязаться, было сверх меры. Но для нас, космолетчиков, сделали исключение, пропустили вне очереди, и мы получили номер своей команды и личные номера.
В десятке, которая нам противостояла, я узнал узколицего парня из рипарта. И конечно, этот едок оказался моим соперником. Такое уж у меня счастье — жребий всегда выкидывает со мной странные штуки.
Дошла очередь и до нас. Я легко обогнал моего едока на беговой дорожке. Затем нам пристегнули крылья. Я сделал хороший разбег, сильно оттолкнулся шестом, он гибко спружинил и выбросил меня в воздух, а я расправил крылья. Люблю полет! Крылья упруго вибрировали и позванивали на встречном ветру, я вытягивал, вытягивал высоту, а потом перешёл на планирование. Приземление после такого полёта — целая наука, ну, я-то владел ею. Я вовремя сбросил крылья, погасил скорость и мягко коснулся земли. Мой соперник приземлился метров на тридцать позади, несколько раз перекувырнулся через голову, и это обошлось ему в десять потерянных очков.
Стрельба из лука с оптическим прицелом. Лишь две из моих десяти стрел не попали в цветную мишень. Но узколицый стрелял не хуже и набрал столько же очков, что и я.
Потом — фехтование. Я пытался ошеломить противника бурным наступательным порывом, но он умело отразил атаку и заставил меня обороняться, в результате я потерял шесть важных очков.
Разрыв в очках, который мне принесла победа в свободном полёте и беге, сокращался, и мною овладел азарт. Кроме того, было и ещё нечто, побуждавшее меня изо всех сил стремиться к победе. Это нечто, как я подумал потом, восходило к старинным рыцарским турнирам, которые и гроша бы не стоили, если б на балконах не сидели прекрасные средневековые дамы.
Над стадионом плясали буквы, складываясь в слова. Вдруг возникло: «Вперёд, Леон!» Что ещё за Леон? Я метнул диск, чуть не достав до этого Леона, и снова увеличил разрыв в очках. Теперь осталась интеллектуальная часть состязаний. Сейчас я положу этого фехтовальщика на лопатки.
Я попросил его припомнить третий от конца стих из поэмы «Робот и Доротея». К моему удивлению, узколицый прочёл всю строфу без запинки. Ну, подожди же! Надо что-нибудь из более давних времён… И я решил убить его вопросом: «Был ли в истории литературы случай, когда кривой перевёл слепого?» Он поглядел на меня с улыбкой и сказал: «Хороший вопрос». И продекламировал эпиграмму Пушкина:
Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера,
Боком одним с образцом схож и его перевод.
Затем он задал мне вопрос: кто из поэтов прошлого вывел формулу Римской империи? По-моему, здесь был подвох. Никогда не слышал, чтобы поэты занимались такими вещами…
Нам предложили сочинить стихотворение на тему «Ледяной человек Плутона», положить его на музыку и спеть, аккомпанируя себе на фоногитаре.
Много лет подряд телезонды передавали изображения мрачной ледяной пустыни Плутона, пока в прошлом году не разразилась сенсация: око телеобъектива поймало медленно движущийся белесый предмет. Снимки мигом облетели все газеты и экраны визоров и породили легенду о «ледяном человеке Плутона». Все это, разумеется, чепуха. Планетолог Сотников утверждает, что это было облако метана, испарившееся в результате какого-то теплового процесса в недрах Плутона.
Вот в таком духе я и написал стихотворение. Приэтом я остро сознавал свою бездарность и утешал себя только тем, что за отпущенные нам десять минут, пожалуй, сплоховал бы и сам Пушкин. Я схватил фоногитару и начал петь своё убогое творение на мотив, продиктованный отчаянием. Впоследствии, когда Робин принимался изображать этот эпизод моей биографии, я хохотал почти истерически. Но тогда мне было не до смеха.
Сознаюсь, мне очень хотелось, чтобы мой противник спел что-нибудь совсем уж несуразное. Но когда он тронул струны и приятным низким голосом произнёс первую фразу, я весь напрягся в ожидании настоящей поэзии.
Вот что он спел, задумчиво припав щекой к грифу гитары:
Кто ты, ледяной человек?
Вопль сумеречного мира,
Доведённого до отчаянья
Одиночеством?
Призрак безмерно далёких окраин,
Зовущий на помощь,
На помощь?
Или ты появился из бездны
Грядущих времён,
Чтобы напомнить людям, живущим в тепле,
Что их Солнце
Не вечно?
Кто ты, ледяной человек?
Короткий вихрь рукоплесканий пронёсся по трибунам. Должно быть, за нашим соревнованием следило много зрителей, настроивших свои радиофоны на наш сектор.
Я опередил противника в решении уравнений. Но в рисовании он опять меня посрамил.
В заключение нам предложили тему для десятиминутного спора: достижимость и недостижимость. Мой противник выдвинул тезис: любая цель, поставленная человеком, в принципе достижима при условии целесообразности. Надо было возражать, и я сказал:
— Достижим ли полет человека за пределы Солнечной системы? Точнее — межзвёздный перелёт?