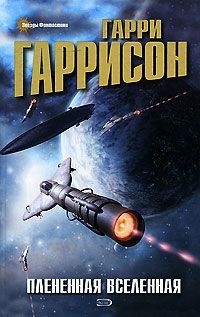Гарри Гаррисон - Плененная Вселенная (авторский сборник)
Здесь, наверху, где ветер гулял, как хотел, было холодно. Но он не замечал этого. С каждым мгновением небо становилось все более светлым, и темнота отступала и отступала от входа в пещеру. Когда лунный свет сделался в ней полным хозяином, он почувствовал себя обманутым. Смотреть здесь было не на что. Пещера была самой обычной пещерой, просто выемкой в скале, и длина ее не превышала двух человеческих ростов. В ней не было ничего, кроме камней, больших камней. Пол пещеры был усеян ими. Он пнул ногой ближайший из них и мгновенно отдернул ногу. Это не камень... Но что же тогда? Он наклонился и поднял это. Пальцы показали ему, что это такое, в то же самое мгновение, когда и нос узнал знакомый запах. Мясо. Ужас повлек его назад и едва не увел за выступ, навстречу смерти. Он остановился у самой кромки, дрожа и вновь и вновь вытирая о камень руки.
Мясо. Плоть. И он коснулся его, куска, превышающего фут, куска около двух футов длиной, а толщиной почти в длину его руки. В праздничные дни он ел мясо и видел, как мать готовила его. Рыба или маленькие птицы, пойманные в гнездах, или, лучше всего, гвайолот, индюшка со сладким белым мысом – разделенные на куски и лежащие на банановом пере или лепешках. Но насколько велик самый большой кусок мяса от самой большой птицы? Есть лишь одно существо, чьи куски плоти могут бить такими большими.
Человек. Удивительно, как он остался жить, пробираясь вниз, за уступ. Но его молодые сильные пальцы рук, действуя в полном согласии с пальцами ног, знали свое дело, и он невредимым спустился вниз. Сам спуск не остался в его памяти. Поток его мыслей разбивался на отдельные фрагменты, как струя воды на капли, стоило ему вернуться в памяти к увиденному. Мясо людей, принесенных в жертву богам запилотов, помещалось сюда в пищу хищникам. Он видел это. Будет ли его тело избрано следующим источником этой пищи? Когда он достиг подножия, его тело била такая дрожь, что он упал и лежал неподвижно, прежде чем нашел в себе силы пробраться через пески и доковылять до деревни. Физическая усталость заслонила собой часть ужаса, и он начал понимать, насколько опасно для него быть обнаруженным сейчас здесь. Он лег и тихо пополз мимо спящих коричневых домов с маленькими темными окнами-глазами. Он полз так до тех пор, пока не достиг собственного дома. его петлатл все еще лежал там, где он его оставил. Казалось невероятным, что ничего не изменилось за то бесконечное время, которое он провел вне дома. Он поднял ковер, внес его в дом и расстелил у потухшего, но все еще теплого очага. Натянув на себя одеяло, он мгновенно заснул, стремясь как можно скорее уйти от того реальном мира, который внезапно сделался страшнее самого ужасного кошмара.
3
Число месяцев равно восемнадцати,
А восемнадцать месяцев называются годом.
Третий месяц называется Тозозтонтли
И приходит тогда, когда сеют зерно.
И тогда бывают игры и празднества в честь дождя,
Чтобы он скорее пришел и дал урожай в седьмом месяце.
Потом в восьмом месяце молящиеся будут просить
Дождь уйти и не портить урожай...
Бог дождя, Тлалок, был в этот год очень несговорчив. Он всегда был капризен, и, возможно, не без причины, потому что уж очень многого от него требовали. В один месяц молодым побегам отчаянно требовался дождь, в другие урожаю были необходимы ясное небо и солнечный свет. Тем не менее Тлалок не приносил дождя или приносил его слишком мало, и люди голодали, потому что урожай был слишком мал. Сейчас он вообще ничего не слушал. Солнце припекало с безоблачного неба, и один жаркий день следовал за другим. Лишенные воды, маленькие побеги нового урожая, почти прижатые к сухой, потрескавшейся земле, были значительно меньше, чем должны были быть, и казались серыми и усталыми. Между рядами растений бились и причитали почти все жители деревни, пока жрец выкрикивал свою молитву, а облака пыли поднимались высоко в нагретом воздухе.
Для Чимала плач был делом нелегким. Почти у всех остальных слезы ручьями текли по щекам – слезы, которые должны были тронуть сердце бога дождя с тем, чтобы струи пущенного им дождя побежали такими же обильными потоками. Ребенком Чимал никогда не принимал участия в подобных представлениях, но теперь, по достижении двадцатого года, он стал взрослым и должен был делить заботы и обязанности взрослых. Он шаркал ногами по твердой почве и думал о голоде, что должен прийти, и о боли в животе, но эти мысли вызвали у него не слезы, а гнев. Потирание глаз вызвало лишь боль в них. В конце концов, когда никто не видел, он смочил их слюной и провел влажные линии по щекам.
Конечно же, женщины плакали лучше всех. Они причитали и мотали головами, так что их желтые волосы в конце концов развивались и путанными прядями падали на плечи. Когда слезы их становились не такими обильными или вообще иссякали, мужчины били их наполненными соломой мешками.
Кто-то задел Чимала за ногу и обдал его своим теплом, громко плача. Он прошел немного дальше, но через мгновение вновь почувствовал рядом с собой присутствие том же человека. Это была Малиньчи, девушка с круглым лицом и округлым телом. Плача, она смотрела на него широко раскрытыми глазами. Рот ее был открыт, и ему было видно черное отверстие в ряду белых зубов – девочкой она упала на камень и выбила один из верхних зубов. Потоки слез лились из ее глаз, и нос активно помогал им. Она была на вид ребенком, но ей исполнилось шестнадцать, так что теперь она считалась взрослой женщиной. Во внезапном приступе гнева он принялся бить ее мешком по плечам и спине. Она не отпрянула и вообще, казалось, не заметила этого, но ее круглые, наполненные слезами глаза продолжали неотрывно смотреть на него – такие же бледно-голубые и лишенные теплоты, как зимнее небо.
В следующем ряду, таща за собой собаку, прошел старый Атототл. Он направлялся к жрецу. Поскольку он был касиком, главным в Квилапе человеком, он пользовался этой привилегией. Чимал проложил себе путь в устремившейся за ним толпе. На краю пола ждал Китлаллатонак. Он выглядел устрашающим в своем старом черном одеянии, запятнанном кровью. Атототл подошел к нему, протянул руки, и оба мужчины склонились над визжащей собакой. Она смотрела на них, высунув язык и тяжело дыша от жары. Китлаллатонак, выполняя свою обязанность верховного жреца, вонзил в грудь животного черный обсидиановый нож. Потом с достигнутым практикой умением он вырвал из груди еще бьющееся сердце и высоко поднял его как жертвоприношение Тлалоку, позволяя каплям крови стекать в стебельки растений.
Больше ничего сделать было нельзя. Но небо продолжало оставаться безоблачным, все так же лились с него потоки жары. Один за другим несчастные жители деревни побрели прочь с поля. Чимал, который всегда ходил один, не удивился, заметив позади себя Малиньчи. Тяжело переставляя ноги, она молчала, но молчание это длилось недолго.
– Теперь непременно пойдет дождь, – сказала она в слепой уверенности. – Мы плакали и молились, а жрец принес жертву.
«Но мы всегда плачем и молимся, – подумал он, – а дождь то идет, то не идет. А жрецы в храме хорошо поедят сегодня – у них будет добрая жирная собака». Вслух же он сказал:
– Дождь непременно пойдет.
– Мне шестнадцать, – проговорила она, и когда он не ответил, добавила: – Я хорошо готовлю лепешки и я сильная. Однажды у нас не было маиса, зерно было неочищено и не было даже известковой воды, чтобы сделать лепешки, и тогда моя мать сказала...
Чимал не слушал. Он погрузился в свои мысли и позволил ее голосу течь мимо него, как ветер, не задевая его чувств. Они шли рядом к деревне. Что-то задвигалось наверху, вынырнуло из жара солнце и скользнуло по небу к серой стене западного утеса за домами. его глаза следили за этим хищником, направляющимся к тому выступу скалы... Но хотя взгляд его был устремлен на птицу, мыслями он был далеко от нее. Ни скала, ни птица не были важны – они ничего для нет не значили. Существовали вещи, думать о которых не стоило. Они продолжали идти, и лицо его было мрачным и неподвижным, хотя мысли являли собой средоточие горячих, раздраженных споров. Вид птицы и воспоминание о той ночи на скале – все это можно было забыть, но мешает умоляющий полос Малиньчи.
– Мне нравятся лепешки, – сказал он, осознав, что голоса больше не слышно.– Я больше всего люблю их есть... – И вновь, подстегнутый его интересом, зажурчал голос, и он вновь перестал обращать на него внимание. Но тлевшая в нем искорка раздражения все не гасла и не погасла даже тогда, когда он, внезапно повернувшись, оставил Малиньчи и направился к дому.
Его мать была у метатла. Она молола зерно к вечерней еде – на ее приготовление уходило два часа. Такова была женская работа. Она подняла голову и кивнула ему, не прерывая обычных движений: