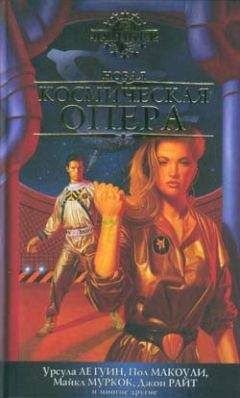Йэнна Кристиана - Дороги. Часть первая.
Как долго это продлится? Меня все равно убьют, так скорее бы... Как было бы хорошо просто сидеть в камере смертников, и ждать... нет, это невозможно!
Ей на горло поставили глушитель, такой пластмассовый приборчик, гасящий все звуковые колебания. Она слишком сильно кричит... хрипит, надрывается, рвется, выворачиваясь из ремней, но все совершенно беззвучно – так бывает во сне, когда...
Отчаяние. Ужас, отчаяние, кажется, мозг выворачивает наружу, как кишки, когда рвет. Этого же просто не может быть... сколько еще осталось? Это не кончится никогда. Это – теперь уже – навсегда. До смерти. Когда станет еще хуже, совсем невыносимо, наступит смерть. Но сколько еще ждать – год, два... я даже одну минуту не могу этого выдержать! Я не могу, вы понимаете это, я не могу, так же нельзя, так невозможно!
В глазах черно. Слишком много этих, и все они в черном. Странная очень форма. Пуговица такая серебристая, блестящая, слегка поцарапанная. Ильгет дышит тяжело, воздуха не хватает. Пока боли нет... что-то ноет внутри, но настоящей боли сейчас нет. Лучше всего рассматривать пуговицу на черном мундире, хочется ее потрогать, но руки же привязаны. Пуговица посверкивает, отражая свет. Почему во рту вкус крови? Я, кажется, закусила губу. Глаза сами собой закрываются. Спать хочется, устала от боли.
Ночь кончена. Луна мертва...
Белый халат, значит, все-таки я в больнице. Почему-то я совсем не вижу их лиц, они где-то там, высоко, расплываются пятнами. Нет, я все так же привязана, вот они, ремни, никуда не делись. На левой руке – капельница, на правой... какой-то браслет. Он надувается. Понятно, это давление измеряют.
– Сколько уже времени? Давно она здесь?
– Дней десять.
(Десять дней? Мне кажется, прошло несколько лет).
– Вы ее потеряете. Пусть отдохнет.
Капельница. И ремней нет никаких... какое счастье, неужели это все кончилось... Ильгет немедленно проваливается в сон.
Маленькая Мари. Ослепительный, безжалостный свет ламп, и крошечное тельце, распятое на дне белого кювеза, под огромной машиной, что непрерывно насилует так и не раскрывшиеся легкие – вдох, выдох, вдох, выдох, вздувается крошечная грудка и живот...
– Выключите эту машину.
– Госпожа Эйтлин, вы хотите убить своего ребенка?
– Но это не жизнь.
Вина, страшная вина – я не смогла, я не знаю, почему так получилось, но я не смогла дать тебе жизнь, доченька. Это моя вина, что твоя кожа так натянута на ребрышки, личико – старческое, испитое. Я ведь делала все возможное, витамины принимала, берегла себя, и почему же так... я так ждала тебя, так радовалась. Я так любила тебя. Прости меня, родная. Но почему же они мучают тебя, почему не дадут хотя бы уйти спокойно?
Вдох, выдох...
Ты даже и закричать не можешь.
– Вы думаете, что есть шанс?
– Я не знаю, госпожа Эйтлин, при такой недоношенности процент выживания...
Прости меня, Мари, прости меня. Я ничего не могу сделать. Даже прекратить твою муку – не в моей воле. Я единственный человек на земле, кто любит тебя, но я ничего не могу сделать... ничего.
На какой-то миг – прозрение, ясное, как молния, я-то хоть знаю, ЗА ЧТО мне все это, хотя бы могу догадаться.
Нет, я не знаю этого точно, но смутно уже понимаю. За что. Мне очень хочется вспомнить, понять. Для себя. Но этого-то как раз и нельзя, потому что тогда ведь и они узнают.
Ты кричишь, но твой крик никому не слышен, пластмассовая заглушка стянула горло. Я знаю, знаю, что надо бороться, но я больше не могу, я действительно не могу, Господи, забери меня отсюда, куда угодно, мне этого больше не выдержать. Это невозможно терпеть...
Сколько уже прошло времени – наверное, год... Воспоминания из прошлой жизни приходят все реже. Я родилась для того, чтобы корчиться здесь, на этом столе, и счастье – это когда тебя оставляют в покое, разрешают спать. Спать. Потом ты с удивлением замечаешь шнур капельницы – они вообще вынимают его когда-нибудь? И сразу проваливаешься в сон. Спасение.
– Информация нужна любой ценой. Вы меня поняли? Любой ценой. Это личный приказ Хозяина.
Ильгет тяжело дышит, глядя вверх, лица – очень смутно. Черные мундиры. Белый халат. Это хорошо, может быть, он скажет, что ей нужно отдохнуть. Что она умирает.
– Капайте больше.
– Больше нельзя, – возражает белый халат, – вы не можете бесконечно усиливать болевую чувствительность, у нее наступит шок. У нее и так низкий порог...
– Если бы у нее был низкий порог, давно бы сняли блокировку.
– Здесь не только в физиологии дело. Применяйте другие методы.
– Калечить не хотелось бы, мы не должны ее потерять.
– Выбирайте, если вам действительно нужна информация.
– Сука. Ты издеваешься надо мной. Думаешь, что круче всех, да? Я тебе покажу, дерьмо...
Информация-нужна-любой-ценой-любой-ценой-любой-ценой-лю...
Господи, я не могу. Я... как животное. Я не могу больше жить, у меня нет никаких сил больше, теперь эта боль – все время, даже когда они оставляют меня в покое, мне постоянно и нестерпимо больно, я не могу даже заснуть, потому что кости... Сейчас вот, правда, уже не болят руки, просто кажется, что они превратились в огромные надутые шары, и наверное, так оно и есть, если скосить глаза, то видно что-то черное и большое. На месте пальцев. Но зато нестерпимо болит спина. Я не могу ни о чем думать, Господи, только о спине, о руках, о голове, о пальцах, я не могу, не могу...
Не могу.
Все время соленый вкус во рту и очень сухо. Это кровь. И пахнет кровью. Тошнит. Я даже не понимаю, зачем это все... за что, почему...
Измученный, раздавленный болью и ужасом, полуживой зверек. Уже не человек. Не надо меня бить, мне и так все время больно... не надо, не бейте меня. Я не могу.
Страшно смотреть и гадливо – как ползет недобитое насекомое, задние лапки оторваны, тело волочится по земле, и оно все еще живет, все еще трепещет, наверное, насекомое не чувствует муки так, как человек, но я всегда убивала полураздавленных мух, я не могу на это смотреть.
Как-то все очень ясно и четко вокруг. Давно уже так не было. Ильгет по-прежнему привязана к столу, и по-прежнему болит все. Но и вокруг все очень хорошо видно.
Вот кто-то подошел, остановился рядом. Незнакомый. Не в черном и не в белом. Костюм, галстук, узкое лицо. Глаза.
Слепые глаза. Слепые, почти белые глаза, из которых бьет свет. Кажется, что он не смотрит на Ильгет, а – куда-то вверх или в сторону. Он молчит.
Это Хозяин, подумала она. Тот, кого здесь называют Хозяином. Сагон, вдруг всплыло откуда-то. Лицо слепого изменилось, он шевельнулся, стал ближе к ней. Все-таки он на нее смотрит. Эти глаза... пронизывают... свет из них, такой ослепительный, он жжет, сжигает изнутри.
Это конец. Ильгет ощутила облегчение – так или иначе, это конец. С этим ей не справиться.
«Хочешь, боли не будет?»
Голос раздается где-то под черепом, Ильгет почти физически его ощущает, даже щекотно внутри головы. Сагон не разжимает губ, но ясно, что говорит он. И в тот же миг боль исчезает.
Ее просто нет. Засмеяться от радости. Хочется благодарить... как она благодарна Хозяину. Какое это счастье...
Как легко.
Информация-нужна-любой-ценой.
«Я могу так же легко вернуть боль. И сделать гораздо хуже. Хочешь?»
Нет! Нет, только не это! Пожалуйста! Я не могу, мне больше не выдержать.
«Тогда сделай этот шаг. Ну сделай же его... сделай. Я жду».
«Я не понимаю».
«Доверься мне».
Господи, помилуй...
Легкий укол боли– как напоминание.
Что же делать? И вдруг Ильгет поняла – что...
Поверить ему, поверить до конца, только и всего.
Но это же враг, это из-за него, только из-за него меня мучают, чтобы бороться вот с этим врагом, я согласилась даже на такое. Я не помню, как и почему, но он – враг.
«Ну? Ильгет, сделай этот шаг. Ты нужна мне. Сделай, ты не пожалеешь».
Но в моем сердце нет доверия. Нет, и оно не может само по себе появиться. Я помню, что это враг. Сагон.
«Значит, я враг?» Угроза в голосе была недвусмысленной. Ильгет в ужасе поняла, что ее ждет, но толком не осмыслив ответ, вслух прошептала.
– Да.
Боль обрушилась снова. В руках сагона сверкнула длинная игла. Он медленно воткнул ее в руку Ильгет, у локтевого сгиба. Но это не так уж больно, и это не шприц... Сагон сжал иглу пальцами.
Ильгет сначала показалось, что в руке торчит раскаленный стержень, и все тело вращается вокруг него, и эта боль была страшнее всего пережитого ранее.
А потом свет померк. Последнее, что она видела сквозь невыносимую боль – страшно сияющие слепые светлые глаза. Сияющие во мраке. И сквозь это сияние что-то неудержимо втягивало Ильгет в глубокую, бездонную воронку, и свет слепил и жег... отчаяние оттого, что она могла, могла как-то это предотвратить, но вот теперь уже поздно, и она сама это выбрала...
...Тело пришпилено копьями, копья торчат даже из лица, и не пошевелиться, хотя вокруг – огонь. Огонь, но она не сгорает. Но хуже всего – это солнце вверху. Оно черное и ослепительное. Оно похоже на пасть... Это и есть пасть. И не одна. Много зловеще ощеренных пастей. Проклята. Проклята навсегда.