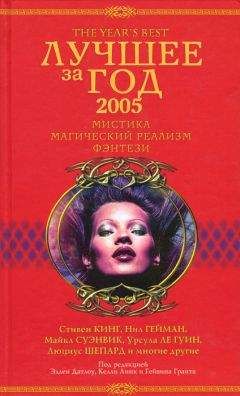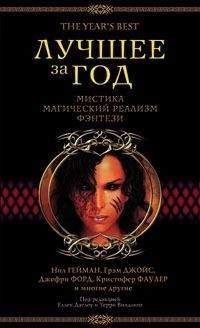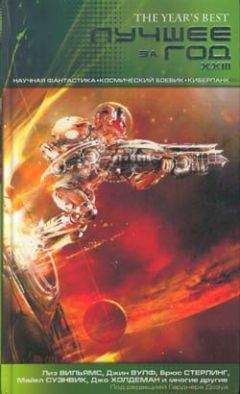Василий Владимирский - Лучшее за год III. Российское фэнтези, фантастика, мистика
Он снял с керогаза луженый ковш с дымящимся глинтвейном, разлил в два высоких стакана, применяемых обычно для тодди, и на подносике доставил к столу.
— И вот, собственно говоря, с тех пор наши терпеть не могли ни Лонгрена, ни Ассоль. Вы спросите, почему мы не подали в суд? А кому это было бы надо? Только одни расходы, с Лонгрена ни гроша не получишь, да и потом, у нас не принято выносить сор за порог. Мы считаем, пусть Бог судит. Хватит и того, что ему никто не подавал руки. Девчонку, конечно, было жалко, ей проходу не давали, дразнили. Сейчас-то я прекрасно понимаю, что она была в этом не виновата. Но — взрослые болтают, дети слушают, а потом дразнятся. А так-то она была ни при чем, да и не хуже других — помогала отцу делать игрушки, по дому справлялась… Не хуже других, хотя и другая. Отчасти это мы сделали ее необычной. Я потом порасспросил хорошенько всех, кто еще помнил об этих событиях, — мы сошлись на том, что она была девушка как девушка. И не брезгуй мы ею — выросла бы такая же рыбачка, как все остальные. Ну, может, не такая болтливая, так это скорее достоинство.
— И вы не узнавали, что сталось с ней?
— Нет. Сперва и не хотелось, потом не было времени, мы вертелись как проклятые, а потом, когда уже были деньги, положим, заплатить частному сыщику, — я не решился. Нашим товаром была мечта о чуде и счастье. Если бы вдруг стало известно, что она несчастна, что ее бросили, мы тут оказались бы на мели. И похоже, не один я так думал, потому что за все годы я не слышал, чтобы кто-то пытался выяснить ее судьбу. Правда, капитан был из Европы, а это, знаете ли, далековато для частных расследований и дорого станет.
— Но вы сами думаете — она несчастна?
— Я, признаться, не верю, что девушка может быть счастлива с мужчиной, который способен швырнуть кучу денег на алые паруса — единственно для того, чтобы показаться ей героем. Если бы он ездил в нашу деревню, гулял с ней, дрался бы за ее честь с нашими — тогда бы я поверил. А так… Дай ей, конечно, Бог.
Он глотнул глинтвейна, обвел глазами полутемный трактир, чей искусно закопченный вид был плодом трудов декоратора городского театра, и щелкнул выключателем: на боковой стене одновременно сверкнули краски.
— Вот тут, собственно, портреты, о которых я вам говорил. С ними тоже связана история, так что, если я еще не надоел вам разговорами…
— Нет-нет! — отозвалась гостья. Хину вдруг подумалось, что она ненамного моложе его — а он сам по местным меркам уже давным-давно старик, и вся эта история, которую он выложил ей с таким пристрастием, — вся эта история уже так далеко в прошлом, с тех пор минуло — погоди-ка — да, пятьдесят лет. Поди-ка ты, ровно пятьдесят! Ему было двадцать три, Ассоль — шестнадцать. Впору закатывать праздник.
— Вот, стало быть, портреты. Их рисовал по памяти один чудной человек. Звали его Филипп, но больше — Блаженный Угольщик. Тоже из живущих на отшибе. Он был у нас углежогом, пил, надо сказать, горькую — в этом самом трактире, при том что меня он терпеть не мог. Это он и растрезвонил везде, что случилось с Ассоль, потому что он с ней дружил — из-за него к нам и потянулись парочки, приобщиться, так сказать, к чуду. А сам он с полгода ходил смурной — так что думали, свихнется. Он не свихнулся, но бросил угольное дело и подался на пятом десятке в художники. Тогда как раз вошла в моду мазня — сперва в Европе, а потом докатилось и до нас.
Он, к чести его надо сказать, носа не задирал. Малевал всегда на улице, что Бог на душу положит, и с ним всегда была бутылка красного вина, за день он ее приканчивал. Своими холстами он расплачивался в городских забегаловках за еду. Потом его заметили газетчики и назвали «первым наивистом Лисса». Его картины стали покупать богачи. Даже в городском Музее искусств есть пара его полотен — «Цветущая угольная корзина» и «Девушка-Муха», если я не путаю. Но большая часть разошлась по рукам и по заведениям. И я их сейчас потихоньку собираю — потихоньку, чтобы не вздуть цены. Потому что я подумываю открыть тут музей. Дело это не доходное, но, как бы сказать, уважаемое — и в самый раз для моих лет быть смотрителем. Кстати сказать, пока Филипп был жив, он не дал мне купить ни одной своей картины. До того был злопамятен. — Хин сказал это даже с некоторой гордостью, и она улыбнулась. — Эти все я купил уже после его смерти. Собственно, та же самая «Девушка-Муха», но в разном освещении и в разных позах. Это вот и есть Ассоль, единственное ее изображение.
Гостья долго рассматривала полотна, чей автор, по причине ли красного вина, неумения или наития, не заботился о том, чтобы ладить с перспективой и пропорциями. Полотен было три — на одном густая, положенная ребристыми мазками охра обозначала солнечный вечер, другой портрет, по мнению живописца, не нуждался в признаках времени и был написан на белом, с радиально расходящимися разноцветными лучами фоне, на третьем, синем, царили алые паруса, и от «Девушки-Мухи» был виден только меловой профиль с темной дугой вскинутых ресниц.
— Этого-то он не видел, — пояснил Хин, — сам додумал.
Сыщик Бликс, известный в Лиссе под прозвищем Овод за настырность в деле, рассматривал клиентов, явившихся к нему в контору: высокого, белого как лунь человека с бакенбардами, фуражке с «крабом» и кителе без знаков различия, и его сына, в форме Королевских военно-морских сил, с седыми висками, с орденскими планками на полгруди и с пустым рукавом, заправленным за ремень.
Старший заметил, что забыл снять свою фуражку, сконфузился и снял с легким извиняющимся кивком. Оба были заметно встревожены — но выказывали тревогу с той мерой, с какой это свойственно людям, которые даже в самом сложном положении не забывают о своем деле. Эти были капитанами, они умели и командовать, и подчиняться — и людям, и обстоятельствам. Бликсу оставалось только решить, должен ли он быть для них человеком — или обстоятельством.
— Итак, уважаемые господа, прежде чем я вас выслушаю, я должен сказать вам, что ваше дело, возьмусь я за него или нет, останется строго между нами и не будет предано огласке без вашего прямого указания. А теперь я весь внимание.
— Мы прибыли на рейд вчера, в шесть часов пополудни, на собственной яхте — она называется «Секрет». Мы — это я, мое имя Грэй, моя жена Ассоль и мой младший сын Гарольд. Поездка предназначалась как подарок для моей жены — к пятидесятилетию со дня нашей свадьбы, которую мы отпраздновали… в этих водах, на корабле с тем же именем. Это было ее желание, и я был рад его исполнить. Мы должны были совершить круиз вдоль побережья, напоминающий наше свадебное путешествие полвека назад, но неполадки в машине привели нас на рейд. Утром она не вышла к завтраку — ее каюта оказалась пуста, а шлюпка с правого борта отсутствовала — позднее мы отыскали ее в порту.
— Сколько вашей жене полных лет?
— Шестьдесят шесть, господин Бликс.
— Она могла самостоятельно справиться со шлюпкой? Я не великий знаток морского дела…
— Мама может управиться со всем, что плавает, — улыбнулся сын.
— Она десять лет ходила со мной на том самом паруснике и действительно может управиться на корабле со всем, от шлюпки до штурвала, причем я часто и сам не понимал, как у нее хватает сил.
— Правильно ли я понимаю, что ваша жена Ассоль — это и есть та самая Ассоль, которая уплыла под алыми парусами?
После краткого молчания капитан подтвердил:
— Да, именно она.
— Господин Грэй, я, конечно, уже с ходу могу предположить, например, что, пользуясь случайной остановкой, она отправилась в родную деревню… Но, если вы позволите, я буду продолжать задавать вам вопросы. Я правильно понимаю, что вам чрезвычайно важно сохранить инкогнито?
— Совершенно верно. Я уже говорил, что мы в принципе не собирались заходить ни в один из портов. Я в курсе, что одно время здесь был своего рода ее культ, и не хотел бы, чтобы она об этом знала, — мне кажется, ее бы это покоробило. Да и она не настаивала на остановке.
— У нее в принципе была склонность совершать спонтанные поступки? Уходить без предупреждения, например?
— Как вам сказать… Подчас да. Господин Бликс, я должен облегчить вам труд и сперва сам рассказать вам то, что, мне кажется, вам поможет. Дело в том, что в родной деревне ее не очень-то и любили. Это во-первых. Но это не столь важно сейчас. Важно другое. Видите ли, среди сотен людей, которым в жизни выпадает счастье, всегда найдутся один или два, в которых пение счастья не может заглушить голоса совести. Ассоль — из них. Я уже сказал вам, что мы десять лет ходили все вместе на паруснике — я, мой тесть Лонгрен, Ассоль и наши сыновья — всего у нас четверо сыновей, и роды принимали повитухи всех цветов кожи. От шведки в Гётеборге до черной как смола повитухи в Капе. Последние роды были тяжелыми, и доктора после этого запретили нам иметь детей и посоветовали вести оседлую жизнь. Десять лет Ассоль видела жизнь с борта «Секрета» пестрой и далекой — а тут вдруг ей пришлось стать хозяйкой моего родового поместья. И ей начало казаться, что она не заслуживает всего этого — моей любви, моего богатства, наших замечательных детей, потому что вокруг есть множество людей, куда менее счастливых, чем она. Мне самому знакомы эти чувства, но с годами я сумел убедить себя в том, что помогать людям нужно в меру сил — и не напрямую, а, скорее, своим примером, с тем чтобы они сумели справиться сами. Она выслушивала меня и соглашалась — но потом ей снова попадался нищий, обиженный ребенок, падшая женщина, и все начиналось сначала. Расходы меня совершенно не трогали, поймите. Меня куда больше беспокоило, что она страдает — а она страдала. Благотворительность не приносила утешения. Ей все время казалось, что она делает мало, недопустимо мало. Она едва не увлеклась революционным движением и едва не увлекла меня — но ее отвратили русские бомбисты, о которых писали газеты, и дух враждебности к инакомыслящим, который пронизывал это движение даже в самых умеренных его проявлениях. А потом грянула война… Она подалась было в сестры милосердия и была, насколько я понимаю, отличной сестрой милосердия, пока одной бессонной ночью ее не доконал этот простой вопрос — за какие заслуги она счастлива и какое она имеет на это право в то время, когда другие несчастны. Можно понять — у нее на руках умирали мальчики не намного старше нашего первенца, искалеченные, сходящие с ума от страданий и недоумения — за что им такое наказание? Через неделю начальник госпиталя силой отправил ее домой — она не могла есть, буквально почернела… Удивительно — она воспряла, когда нашего старшего призвали на фронт. Ей казалось, это ее долг — пожертвовать сыном. Она не плакала. Но мне было страшно думать о том, что в мыслях она его похоронила. Тем не менее его отсутствие и письма с фронта подействовали благотворно. Он вернулся с войны с двумя нашивками легких ранений, и на волне общей эйфории по поводу наступившего мира она, как мне казалось, излечилась окончательно. Но я задумался о том, чтобы оградить ее от болезненных новостей. Мы купили землю на другом краю света, в глуши, отстроили там поместье, и всей семьей перебрались туда. Там мы построили свой собственный мир — для нее. В нем было место маленьким горестям, которые можно было преодолеть, но все большие неодолимые беды мы изгнали вон. Это оказалось не так сложно — довольно было не читать столичных газет, не слушать радио и регулярно пополнять библиотеку, и без того огромную, книгами о славном прошлом или туманном будущем. Вместо газеты к нам с опозданием ходил «Еженедельный бюллетень» из соседнего городка, до того невинный, что его впору было читать на ночь детям. Мы устроили на нашей земле — ну да, нечто вроде коммуны, — однако, поскольку у меня была репутация миллионера и чудака, нас не беспокоили. Дети к тому времени давно уже учились в пансионах и кадетских корпусах, далеко от дома, и писали нам забавные письма… Потом они переженились и навещали нас со своими семьями. Но как-то само собой разумелось, что мы — не путешествуем. В уединении она начала сочинять книги — своего рода длинные сказки, в которых оживал мир. Кое-что даже удалось издать. Мне думается, она понимала, что ее страдания мучают и меня, — и так, в немом согласии не терзать друг друга, мы жили до тех пор, пока не начала вызревать новая война. У меня, конечно, было радио. И я улучал время, чтобы тайком его послушать. Я был в курсе мировых событий — у меня уже в тридцать третьем сосало под ложечкой, когда из динамиков лаяли по-немецки, а трусом я никогда не был. И когда мне окончательно стало ясно, что война будет, я принял меры к ее предотвращению. Я договорился с «Еженедельным бюллетенем», что они будут выпускать один номер нарочно для нас. И там не будет ни одной новости о войне, когда бы она ни началась. Главный редактор даже согласился сочинять эту газету — он был понимающий человек. Поэтому в нашем мире не было ни Перл-Харбора, ни Сталинградской битвы, ни Аушвица… А мои сыновья водили в полярных льдах исследовательские суда, а не служили в Северном конвое. Гарольд, например, потерял руку в схватке с белым медведем, спасая эскимосского мальчика. Правда, на самом деле медведь назывался «Юнкерсом», вот так.