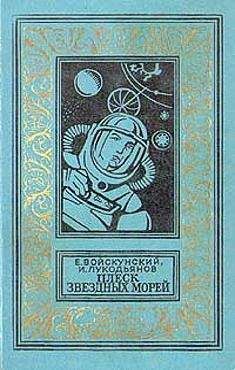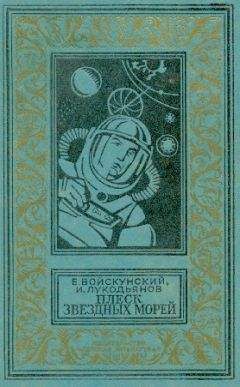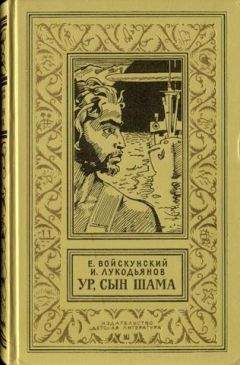Евгений Войскунский - Очень далекий Тартесс (др. изд,)
— Эх вы, не знаете, что радио — это культура.
И уже этот троллейбус, набитый музыкой и прочим радиовещанием, подходил к Васиной остановке у второй поликлиники, как вдруг…
В раскрытом окне мелькнуло что-то чёрное. В следующий миг нечто жёсткое и холодное стиснуло Васины колени…
Вася был абсолютно прав, сказав, что радио — это культура. Более того: вы прекрасно знаете, друзья, какой гигантский вклад внесло радио в человеческую цивилизацию.
Правда, Александр Степанович Попов не мог предвидеть всех последствий своего великого изобретения: он помышлял главным образом о спасении кораблей.
Не задумывался о последствиях и Томас Эдисон, изобретая систему звукозаписи. Он, наивный человек, очень обрадовался, когда первый фонограф прохрипел:
Ах, у Мэри был ягнёнок с шёрсткой белоснежной,
И куда б она ни шла, он бежал за девой нежной…
Радио произвело переворот в человеческой жизни почти столь же значительный, как изобретение нашими предками ям для ловли мамонтов. Но если мамонтоловки были полезны во всех отношениях, то радио, кроме несомненной пользы, стало со временем приносить несомненный вред.
Рупоры уступили место диффузорам магнитодинамиков, граммофонная пластинка — магнитной ленте. И уже не только в городах, но и в некогда тихих райцентрах орали, содрогаясь от собственной мощи, динамики.
Страшные динамики проникли в поезда и пароходы, даже в автобусы дальнего следования. Почему-то было принято считать, что пассажир желает слушать музыку с раннего утра до позднего вечера. И если он пробовал протестовать, то всё равно его слова тонули в оглушительном лае:
А пока — наоборот!
Только чёрному коту и не везёт!
И, может быть, только в какой-нибудь горной деревушке в далёких Андах сохранилась первозданная тишина.
Надо сказать вам, что ещё до бурного развития радио человечество предупреждали. Был такой писатель, да его и сейчас почитывают, — Жюль Верн. Он был фантаст и любил описывать будущее. Так вот, он писал: «Пусть музыка всего лишь художественно упорядоченные колебания звуковых волн — лучше всё-таки, чтобы эти колебания не превращались в оглушительную бурю».
Неплохо сказано, правда? А ведь во времена Жюля Верна люди слушали музыку в несколько сот раз реже, чем сто лет спустя, а громкость естественного звучания, при которой воспринималась тогда музыка, не идёт ни в какое сравнение с рёвом динамиков, когда звуковое давление на органы слуха подходит к болевой границе.
Однако фактор психического воздействия шума гораздо опаснее, чем механическое звуковое давление. Ведь человеческий организм совсем не рассчитан на целодневное принудительное восприятие громких звуков. Люди начали становиться болезненными, неуравновешенными, раздражительными.
Знаменитый Гуно писал о великом Моцарте: «Ты — вечная правда! Ты — совершенная красота!.. Ты — неисчерпаемая прелесть!.. Ты все почувствовал и все выразил в музыке, которую никто не превзошёл и никогда не превзойдёт!..»
Но если бы знаменитый Гуно прослушал магнитную запись пятого концерта Моцарта ля мажор опус десять на полном усилении, не имея возможности отойти подальше, ещё неизвестно, какие бы слова пришли ему на ум. Ведь в его время не водилось таких громкостей, при которых даже безобидная лирическая песенка превращается в орудие пытки.
Не надо думать, что человечество не возмущалось. Оно возмущалось. Иногда его протесты даже передавались по радио. Более того — шла научная работа. Доказывалось с неоспоримой точностью, что шум вреден для человеческого организма. Некоторые здания снабжались звукоизоляцией, заводские вентиляторы — виброфундаментами.
Потом появились портативные транзисторные приёмники — и тут уж стало ясно, что спасения нет. Музыка захлёстывала города и села. Каждый второй прохожий нёс работающий транзистор. Вошло в обыкновение таскать с собой на ремне даже приёмники, тяжёлые, как комод. Дошло до того, что музыка и футбольные репортажи, извергающиеся непрерывно, заглушали бурный стук костяшек домино — чрезвычайно распространённой в те времена игры.
И уже даже в Андах — в тех самых горных деревушках, где тогда ещё не умели делать кукурузной муки, где индианка каждый день лущила початки, варила кукурузные зерна и часами растирала вареное зерно в кашицу, чтобы испечь тонкие лепёшки тортильяс, — даже там теперь гремел на всю хижину дешёвый транзистор, проданный в рассрочку предприимчивым местным лавочником. И горное эхо недоуменно вторило «Ла паломе»:
Я прилечу к тебе с волной морскою,
Ты мои перья нежно погладь руко-ою…
Ах, друзья, это было ужасно!
Чёрный робот проник в окно троллейбуса и вклинился между Васей и его соседом. Он выпустил манипулятор и осторожно, почти материнским жестом отобрал у Васи работающий на полную громкость транзистор. Затем он раскрыл широкую пасть…
Вася Крюченков понимал толк в металлических зубах. Он сам делал их. Но при виде пасти Чёрного робота Вася чуть было не лишился чувств. Она, как пасть акулы, была усеяна множеством рядов острых, длинных зубов. Зубы поблёскивали, и каждый из них быстро вращался.
Чёрный робот сунул хрупкий аппаратик в пасть и съел его на глазах у Васи. И бедный Вася слышал, как приёмник издал последний жалкий писк, а потом раздалось мерное хрустение — это зубы чудовища размалывали нежные пластмассовые потрошки транзистора.
Потом робот метнулся к другому парню с транзистором. Тот попробовал было сопротивляться, но куда там!..
Почти одновременно Чёрные роботы появились во всех городах мира. Вежливые и беспощадные, они совершали нападения на владельцев портативных приёмников. Не причиняя людям вреда, они отнимали у них и съедали транзисторы. Они залезали на столбы и пожирали ревущие динамики. Задержать Чёрных роботов никому не удавалось — так они были защищены. Их программой был голод по радиоприёмникам, работающим в общественных местах. Чёрные роботы никогда не нападали на тех, кто слушал радио на минимальной громкости в уединённом месте. Но на улицах, в поездах, на пляжах от них не было спасения. С поистине дьявольской ловкостью они проникали всюду.
Так никто и не узнал, кто создал Чёрных роботов, где они заряжались, где размножались и самосовершенствовались.
Говорят, когда с радиоистязанием человечества было покончено, Чёрные роботы перепрограммировались на домино.
Но это уже совсем другая история…
…Как ни оттягивай решительный разговор, а всё равно он настаёт.
Сразу после обеда я направился в кабинет Самарина. Разговор с начальником космофлота был долгим и трудным. Он выключил аппараты связи и попросил дежурного диспетчера докладывать лишь сверхсрочную информацию. Он убеждал меня не уходить из космофлота: предстоят интересные спецрейсы, надо доставить на околомарсианскую орбиту крупную гелиостанцию, затевается строительство посёлка на Титане, и он, Самарин, предполагает использовать для этих рейсов оба новых корабля, и уже подготовлен приказ о моем назначении командиром одного из них…
— Нет ни одного пилота в Системе, — сказал он, — который не мечтал бы летать на таком корабле.
— Спасибо, старший, — сказал я. — Летать на нём действительно большая честь. Но я вынужден отказаться.
Самарин подпёр щеку ладонью и посмотрел на меня, прикрыв один глаз.
— Позволь тебя спросить, Улисс: что ты будешь делать на Венере?
— Жить.
Мы помолчали. Тускло серебрились аппараты связи, занимавшие добрую половину самаринского кабинета.
— Ведь я примар, старший. Почему бы мне не вернуться в отчий дом?
— Ты сделал все, чтобы вытравить в себе примара. Ты прирождённый пилот, Улисс, и твоё место в космофлоте. Не тороплю тебя, подумай день, два, неделю, прежде чем решить окончательно.
— Я решил окончательно.
— Ну, так. — Самарин выпрямился, положил на стол руки, старые руки с набухшими венами. — Не понимаю, почему я должен тратить время на уговоры. Даже в праздники мне не дают покоя. Я забыл, когда я отмечал праздники, как все люди. Что за разнесчастная у меня должность!..
Я терпеливо выслушал его, пока он не выговорился. Очень не хотелось огорчать старика, и я подумал, как трудно мне будет без привычной его воркотни, без стартовых перегрузок, без большого пилотского братства. Я заколебался было.
По-видимому, я ещё не очень крепко утвердился в принятом решении. Да, я заколебался. Не знаю, чем закончился бы наш разговор, если бы не ужасное событие, от которого я долго потом не мог оправиться…