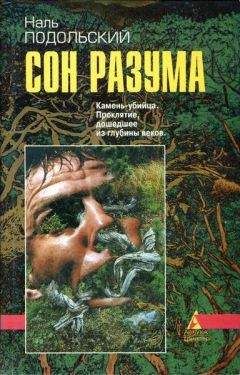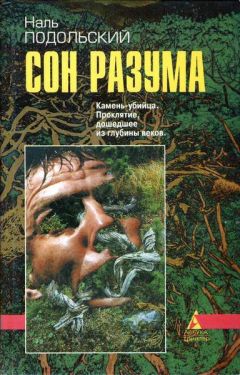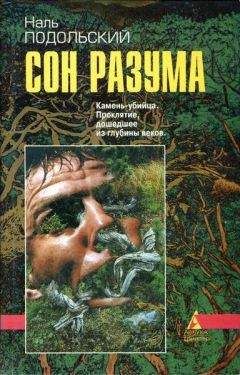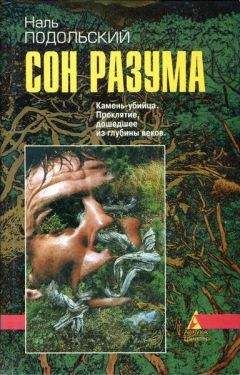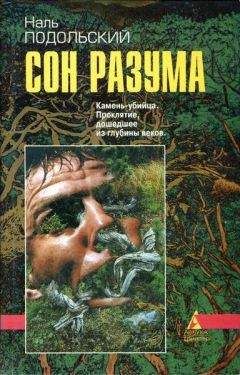Екатерина Флат - Любовь и магия-2 (сборник)
Вся эта история давно скрылась в прошлом, а время, знаете ли, – это все равно что костер, в котором память – хворост. Но хоть я и дряхлый старик, давно позабывший многое из того, что помнил, и путающий имена трех своих внуков, эту историю я буду помнить всегда. И когда кто-то в очередной таверне решит рассказать историю о писаре Тайдерене и Семтре, которая так любила его, что решила бросить вызов наложенному на ее род проклятью, я ухмыляюсь и слушаю, что еще насочиняла молва, а сам вспоминаю этих бедолаг и ту страсть, что в конце концов сожгла их дотла. И радуюсь, что боги не послали мне напасти, подобной той, что низверглась на их души.
Ведь порой лучше прожить долгую, спокойную жизнь, знаете ли. И сидя за кружкой эля в трактире, слушать легенду о Тайдерене и Семтре и их любви, которая бросила вызов богам.
Сердце под мясным соусом (Савченкова Елена)
Я провел рукой по жесткой маслянистой щетине. Местами она застыла иголками из-за заскорузлой грязи, смешанной с кровью. Я приложил руку между передними ногами, хотя прекрасно знал, что его сердце не бьется. И все же я почти ощутил ритмичное вздрагивание мышцы, оплетенной густой сетью голубоватых вен, прожилок и капилляров. Еще совсем недавно эта мышца толкала кровь по туше кабана, наполняя ее жизнью.
Наш король всегда любил охоту. Но в последнее время он предавался любимой забаве сутки напролет, на пару с братом королевы. Я не успевал ощипывать, опаливать и разделывать всю ту покрытую сломанными перьями и свалявшейся шерстью плоть, что недавно бегала по лесу.
Вот и сегодня он вернулся с добычей: победоносная улыбка на лице, волосы, расплавленным золотом стекающие по плечам. О, он красив, наш король! А еще силен и быстр, как то подобает особам королевской крови.
«А кто таков я?» – спросите вы. Мое имя в этой истории не столь уж важно – совсем скоро его уже никто не упомнит. Может, изредка кому и придет в голову задаться вопросом: а как звали того самого повара… или мясника? Ну, который жил в замке? И вопрошающему ответят: наверное, его звали Якоб, а может быть, Франц или Йохан – да какая кому разница… речь ведь не о нем.
На деле, все куда прозаичнее: я Ганс, один из сотен тысяч Гансов, населяющих бескрайние просторы нашего королевства. Еще мальчишкой мне посчастливилось попасть на дворцовую кухню. И если при слове «мясник» вы представляете себе коренастого, медведеподобного мужлана с распаренной жаром очага кожей, бычьей шеей и короткопалыми ручищами – то вы видите меня.
Многие скривятся при упоминании изнанки моего ремесла, но я им горжусь. В нем есть едва различимая музыка и незримая поэзия. Ты почти слышишь, как оборвалась их жизнь. И все, что тебе остается, – это превратить их кончину в искусство. Из уважения к такой же божьей твари, как ты сам. А потому, отняв руку от остывающего бока зверя, я принялся за дело.
Удар был нанесен неточно в сердце, а значит, он подыхал долго. Чтобы прервать предсмертные муки животного, им стоило еще лишь раз просунуть длинное лезвие в рану и прорезать легкие в направлении головы. Но, глядя на выколотые глаза и исполосованную шкуру – то, несомненно, забавлялся брат королевы, – я понял, что они этого не сделали.
Я принялся опаливать шкуру – теперь зверю уже все равно. Воздух кухни тут же наполнился едким смрадом, впрочем, мне привычным. Для меня он был так естествен, что заставьте меня выбраться на чистый, тронутый утренней свежестью воздух – и я бы скривился. Настолько безвкусным, плоским и пустым он бы мне показался.
От пламени шкура сначала почернела, а потом заблестела – то вытапливался пахучий, маслянистый жир. Вскоре обожженная туша вся покрылась пеплом. Крупные хлопья взметались и вихрились при малейшем касании, подобно снежным мухам. Но порождены они были огнем, а отнюдь не падавшей с неба мерзлой водой.
Покончив со шкурой, я взялся за копыта – на них ушло куда больше времени. Зато ороговевший слой снимался легко – точно так же вы высвобождаете косточку из спелой мякоти финика. Всю дальнейшую работу я также выполнял не спеша. Я обучался своему ремеслу много лет, а потому на сало не попало не единой капли – кровь ухудшила бы его вкус. И вот, в тот самый момент, когда я отрезал кабану голову, с хрустом продираясь сквозь неподатливые позвонки и сведенные смертной судорогой мышцы, я поднял глаза и впервые в жизни увидел Ее.
Если вы ожидаете услышать, какой она была прекрасной, как солнце сияло в ее волосах, а птицы пели при одном лишь упоминании ее коралловых губ, то я вас разочарую. Когда король привел ее на кухню, она ничем не отличалась от тысяч безликих бродяжек, коими кишат неприютные дороги нашего королевства.
Ее сбившиеся колтунами волосы давно не соприкасались с гребнем. Цвет и материю платья, болтавшегося на ней, было уже не различить – настолько оно истерлось. Впрочем, даже мне, изо дня в день имевшему дело разве что с кабаньими тушами, зайцами и фазанами, а посему мало что смыслящему в нарядах, оно показалось старомодным. Одна ее рука была обернута какой-то грязной тряпкой. А выражение лица… больше всего в тот момент она напоминала испуганную куропатку. Но сквозь затравленные черты уже тогда проступало что-то сильное и твердое, как нож, которым я имел обыкновение перерубать при разделке хребет.
– Накорми ее, Ганс, – сказал наш лучезарный король и кивнул на Талию.
Я видел, как ее лицо – лицо нищенки, найденыша и вместе с тем хищного зверька – сморщилось при взгляде на меня от страха и брезгливости. Да, я не красив. Но обычные бездвижные гости моей кухни, моей вотчины, на это не жалуются.
Я зачерпнул ей целую миску картофельного супа и вывалил поверх остатки гуся с обеда. Королям не пристало задерживаться на кухне, а потому вскоре мы остались одни. Едва король вышел, как она накинулась на угощение так, будто утоляла вековой голод. Я почти слышал спазмы ее желудка, разрывавшего предложенное угощение. Пару раз зачерпнув похлебку хлебом, как полагается, она вдруг погрузила в нее исхудавшие пальчики и принялась жадно зачерпывать обжигающую жижу – будто боялась, что я вырву у нее миску. Едва покончив с супом, она впилась зубами в гусиную ногу, подернутую крупинками остывшего жира. Растопленный теплом ее кожи, он стекал по подбородку, а издаваемые ею в тот момент звуки больше походили на рычание зверя, торопливо рвущего добычу.
Я отвернулся и продолжил работу. Обвязав бечевкой пятак, подвесил голову кабана на крюк, чтобы стекла оставшаяся кровь. Затем разрезал, порубил, искромсал тушу на все положенные куски. Вынул печень, осторожно вырезал желчный пузырь и доломал ребра. Разрезал на ленты и подвесил. Выскоблил и замочил в уксусе с солью желудок. И в момент, когда отжимал и выворачивал кишки – чтобы сделать назавтра кровяную колбасу, – я услышал позади себя странный звук. Обернувшись, я увидел, что ее стошнило. Я не знаю, что положено делать в таких ситуациях, а потому попросту стоял и смотрел, как дурак. Она выбежала из кухни, бросив недоеденного гуся. В тот вечер никто из нас так и не сказал друг другу ни слова. Впрочем, как и во множество последующих вечеров.
С того дня ее визиты стали регулярным делом – столь же регулярным, как и отлучки короля на охоту. Впрочем, теперь он все реже привозил из леса добычу, предоставив это своим охотникам.
– Накорми ее, Ганс, – по обыкновению бросал он.
Прежнее брезгливое выражение все реже проступало на ее лице – она привыкала к моему облику. И вот как-то раз, промакивая хлебным мякишем остатки ячневой похлебки и наблюдая за тем, как я ощипываю фазана, она впервые заговорила со мной:
– Так тебя зовут Ганс?
– Да.
– Так просто? Просто Ганс и все? Какое неинтересное имя.
«Вряд ли имя простой бродяжки интереснее», – хотел возразить я. Но уже тогда догадывался, что под этим заношенным старомодным платьем, под тонкой, готовой порваться от выпирающих костей, кожей, скрывается далеко не простая крестьянка. Я промолчал.
Теперь ее льняные волосы были причесаны и аккуратно обернуты вокруг головы в косы толщиной с мою руку. А на смену заношенному платью вскоре пришло искусно расшитое – пожалуй, где-то я такое уже видел. Вместо грязной перевязи ее руку обняла чистая тряпица. А прежде впалые щеки приобрели приятную округлость – не в последнюю очередь благодаря визитам на мою кухню. Я терялся в догадках, сколько ей лет. Порою передо мной сидело сущее дитя. А в другой раз подле нее я сам себе казался ребенком. Мне не следовало задаваться подобным вопросом. Мне вовсе не следовало думать о ней. Ведь даже я, небыстрый на смекалку, не обманывался насчет истинной причины ее появлений в замке. Равно как и причины частых отлучек короля на охоту.
И вот как-то раз, при взгляде на ее отяжелевшие шаги и погрузневшие, налитые груди, я догадался о том, что вскоре стало ясно всем. Еще чуть погодя ее свободное платье уже не могло скрыть раздувшегося чрева, в котором спала, в ожидании своего часа, новая жизнь. Все остальное в ней не поменялось: те же узкие плечи, тонкие лодыжки и пальцы. Я видел, что с каждым днем ей все труднее преодолевать ступени, отделявшие мой мир – мир кухонного чада, дыма и пряных испарений – от остального замка. Она появлялась все реже. Не знаю, чем она питалась в остальное время. От других слуг, чье непрерывное перешептывание наполняло закутки замка, я знал, что она живет где-то в лесу. Где-то неподалеку.