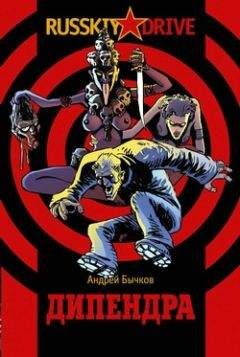Красная тетрадь - Беляева Дария Андреевна
Но все-таки таков был единственный способ добраться до Ванечки.
– Ну ты же не всегда таким был! – сказал Ванечка. – Ты был и маленьким! Маленьким совсем! Таким маленьким, чтобы так со мной не поступать!
Сейчас я думаю: до чего легко он мог бы заставить меня вонзить собственные новоприобретенные когти себе в глаза, если бы только знал, как это делается. Но если бы даже знал, разве сделал бы?
Я встал на кучу веток, оставшуюся на земле после восхождения Ванечки, подпрыгнул, вцепился когтями, пару раз съехал вниз, а потом приноровился, когти наконец стали такими крепкими, как нужно.
Еще лучше было бы отрастить их и на ногах, да только я не мог хорошо этого представить, и ботинки стало жалко, мама бы очень расстроилась.
Я карабкался вверх, а Ванечка сидел и плакал. Он плакал обо мне.
– Бедный, бедный Арлен! Как же мне тебя исправить?
Но меня не нужно было исправлять. Я и был аккуратно заряженным ружьем, хорошо заточенным ножом, верно отлитой пулей. И не мог стать чем-то другим.
Ванечка весь трясся, но будто бы даже не от страха, а просто его переполняло множество болезненных чувств, они резонировали, ударялись в меня, как волна, которую нельзя увидеть, и я замирал, потому что должен был с ними справиться.
– Должен! Должен! Должен! Ты всегда должен! Тебе будет больно!
Я лез вверх, хотя это и было больно, но тем ценнее становилось мое восхождение.
– Глупый! – сказал Ванечка. – Думаешь, что с ними еще делать! Они же сумасшедшие! Можно вытаскивать из них легкие, и сердца, и почки, и все другое!
– Что?
– Ты думаешь так! Ты думаешь так, хотя знаешь, что я правду говорю! О скотобойнях! Обо всем! Великая честь – пойти на запчасти! Тебе не жалко! Не жалко никого!
Я уже почти добрался до ветки, на которой он сидел. Вдруг Ванечка перестал плакать. Он сказал:
– Мои мама и папа, и мой брат!
Я не понимал, о чем он говорит. Я понимаю только сейчас.
– Не надо, чтобы мои мама и папа, и мой брат! Никто-то ничего не знал! Не знал! Я только знал, потому что слышал отовсюду! Они не слышали!
Я глубже вонзил когти левой руки в древесину, надеясь, что мне хватит времени и сил стянуть его вниз.
Ванечка сказал:
– Так мало что умею, так мало! Но это я знаю – как! Прости, Арлен, только так!
Я схватил его за руку, когти процарапали кожу, вонзились в него, Ванечка раскрыл рот смешно и отчаянно, а потом сказал так ласково, как со мной никто еще не говорил, никогда:
– Друзья навсегда, Арлен!
Он наклонился и свободной рукой коснулся моего носа.
– Так, – сказал мне Ванечка, и мы упали вместе.
А потом мне приснился долгий сон. Сон этот крайне странный, и писать я о нем не буду.
Запись 182: И опять
Ну как же быть? Как же мне быть? Ничего не могу решить. Тетрадь теперь не выпущу из рук никогда, во всяком случае, надо решить окончательно, а я не могу, и вокруг такая суматоха.
Очень тяжело об этом думать.
А не думать, отложить решение, это никак у меня не получается.
Запись 183: Все-таки сон о Космосе
Наверное, надо рассказать и сон. Все равно я уже много наболтал, почему бы и про сон не написать?
Сон, конечно, вышел очень странный, но начать следует не с него, а с того, как я уснул.
Во-первых, конечно, я не потерял сознание от удара о землю. Я заснул во время падения, в те секунды – это мне совершенно ясно.
Во-вторых, во снах мы не чувствуем вкусов и запахов, а многие детали недоступны для рассмотрения. Может быть, логичнее было бы назвать то, что со мной случилось, не сном, а видением? Но ведь и видение подразумевает, в первую очередь, получение визуальной информации.
Очень похожее состояние я переживал, когда ловил случайные воспоминания Андрюши, Бори или Ванечки.
Я бы назвал это погружением, но так как я не знаю, куда мы с Ванечкой погрузились, то и это выходит неточно. Придется все-таки остановиться на том, что это был сон. Сон – приемлемое, хотя и неточное название для состояния, когда человек не владеет своим телом, не осознает происходящего и видит нечто, чего нет в реальности или то, что в реальности иное.
И начался мой сон с того, что я был Ванечкой. Теперь я знаю: то, что Ванечка показал мне, он сам увидел много лет назад. Далее я буду говорить о нем в третьем лице, хотя я ощущал себя внутри, а не снаружи, однако, в данном случае мне кажется более оправданным рассказать все именно так, потому что скоро, очень скоро, речь пойдет обо мне.
Ванечке было семь, и он сидел в поле под ярким, жарким солнцем.
Он любил свою деревню, и маму, и папу, и совсем маленького еще братика. Мама послала его за хлебом, он долго шел по пыльной дороге, а в магазине ему дали мармеладку, потому что он – молодец.
Ванечка возвращался домой, по правую руку от него раскинулось широкое пшеничное поле, такое золотое, как будто это взошли не колоски, а лучи, сброшенные на землю Солнцем.
Ванечка, конечно, не удержался, хотя его ждали дома. Он свернул с дороги и погрузился в это поле, как погружаются в воду. Ванечка был еще совсем мал ростом, а оттого колосья доставали ему почти до самой макушки. Они хлестали его по щекам, больно впивались в кожу, но Ванечке вовсе не казалось, что они злые, эти колосья.
Под мышкой Ванечка держал батон хлеба. Он уже знал, что из пшеницы получается хлеб. Значит, и из этих колосков сделают много таких батонов, тогда Ванечка купит их в магазине и принесет домой.
Поле под солнцем было совсем безмятежным и золотым. Мама говорила Ванечке не гулять без панамки в такие жаркие дни, но панамку он потерял и ничуть о ней не пожалел. В поле все колоски стали горячие. Жужжали какие-то жуки, редко-редко на синем, безоблачном небе появлялись черные мазки – птицы. Когда птиц не было, Ванечка подбирал с земли камушки и кидал их в небо, чтобы разогнать эту яркую, режущую глаза синеву.
Иногда камушки падали прямо на него.
А иногда он вовсе не знал, куда они девались.
Ванечка разговаривал сам с собой. Он пел себе песенки и рассказывал стишки, все это ему ужасно нравилось.
Он говорил:
– Вот вырасту и стану делать такой хлеб из вас!
Он говорил:
– Вы тогда у меня посмотрите, как это – колоться так сильно!
Он говорил:
– А меня мама дома ждет обедать!
Он говорил:
– Приедет большая красная машина и всех вас уберет! И жуков очень много туда тоже попадет.
В общем, Ванечка много чего говорил. А когда легкий, ласковый ветерок все-таки проходился вокруг своей мягкой лапой, Ванечка смотрел, как пшеница волнуется, будто это такое желтое море с такими почти настоящими волнами.
В конце концов он устал, сел посередине поля, примяв колосья, откусил мягкого нагретого солнцем хлеба.
Голоса и голоски, которые он слушал, почти не донимали его. Тоненькие и густые, все они утихли. Никто, наконец, ни о чем не просил.
А то весь день: дай мне дожить до дня ее рожденья, дай немного денег, мне так нужно, пусть он умрет, ненавижу, хочу собаку, буду хорошим мальчиком, прости меня, накажи меня, пусть он меня полюбит, пусть она без меня не страдает, как же хочется новый комод, или диван, или телевизор, или полететь в Космос.
У кого такие голоски, Ванечка не знал, он к ним привык, но иногда ему становилось жаль тех, кто так с ним говорит, а его не видит. А то бы ничего не просили. У Ванечки все равно бывают только деньги на хлеб и сам хлеб.
Но есть голоски, которые просят и хлеба. Им бы он помочь мог, да только Ванечка не знает, где они. Он везде искал, и дома, и на улице, особенно тщательно – под кроватью, потому что голоса и голоски часто приходят к нему, когда он засыпает.
Может, они в подушке? Он вытащил подушку из наволочки, а потом разрезал ее ножницами. Там оказались только перышки, легкие и белые, они летали по всей комнате, и ничем не были похожи на голоски.
Ванечка о голосках всем говорил, но никто ему не верил. Мама чувствовала себя расстроенной, когда Ванечка рассказывал, и он перестал.