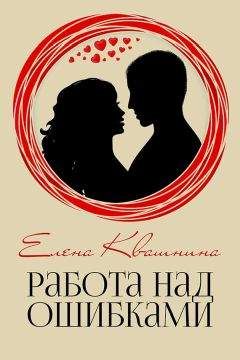Ант Скаландис - Катализ
Совершенно особняком стояло требование сделать «опасный» сибр. Зная, какой кругом бардак, я очень не хотел давать лишнюю возможность для травм и смертных случаев. Но требование возвращалось вновь и вновь, солидные, умные люди объясняли мне, что с тем же успехом можно запретить пользование ножами, спичками и электричеством. И они безусловно были правы. А набор блистательных идей, реализация которых была невозможна без «опасного» сибра, — ножи, буры, скальпели и прочее – довершил дело. Я сломался. Собственно, иначе и быть не могло. Отказ был бы не более чем глупым упрямством. Просто мне не хотелось в очередной раз брать на себя ответственность. Я уже устал от ответственности. Но на кого, на кого, черт возьми, я мог ее переложить?!
А потом была зеротация по-китайски, и еще – всякие идиоты, потерявшие спьяну руки, ноги и даже головы, и еще – убийства с помощью сибра… Но почему я должен отвечать за все это? Почему? А не в ответе ли я за человека, которого стукнули сибром по голове или угробили кирпичом, сделанным в сибре? Может быть, я и за это должен отвечать?
Я не знаю, кому задаю сейчас эти вопросы. Я вообще не знаю, для кого пишу эту книгу. Публиковать ее я не собираюсь. И мои рассуждения скорее всего нужны только мне. Или еще Ленке, Альтеру и Алене. Может быть, Угрюмому и Конраду. Не знаю. Но мне хочется рассуждать. Хочется задавать вопросы. Именно теперь. А тогда, в ту зиму, когда чувство ответственности еще не переросло в муки совести, главной моей расплатой была боль, и, когда она, эта боль, подступала, все остальное просто переставало существовать.
Боли
Боль. Короткое неэффектное слово. Будто и не слово вовсе, а так, просто всхлип, сдавленный стон: боль… А сколько кроется за ним ужаса! Смогу ли объяснить?
Боль не всегда накатывалась с одинаковой силой, но это не зависело от сложности задач. Она только явно свирепела день ото дня. Первые приступы казались просто щекоткой в сравнении с более поздними, в Пансионате, а те в свою очередь в подметки не годились начавшимся в Гантиади. Это не могло продолжаться бесконечно, и на каком-то этапе я стал просто терять сознание, для окружающих – просто, а сам я продолжал воспринимать нечто, словно бы проваливался в иной, абсолютно чуждый, не переводимый никак на язык понятных образов мир. И это было еще страшнее, чем чисто физическая пытка. Угрюмый всполошился. Еще в Пансионате он вместе с целым консилиумом врачей пришел к выводу: в целях сохранения здоровья мне следует вступать в контакт с сибром не более двух раз в сутки. Речь шла, понятно, не о физическом, а о психологическом моем состоянии. Вот почему, как только начались провалы в «нирвану по-брусиловски» – так в шутку называл их Альтер, — Угрюмый совершенно всерьез высказал мысль о том, что я могу оказаться потерянным для человечества навсегда. Хао Цзы-вэн трактовал это так: мой разум будет целиком задействован сверхцивилизацией, станет частью из зонда – Апельсина, а людям останется только мой «бессмертный труп». Я-то знал, что все это чушь несусветная, но никто не желал меня слушать: мальчишка, профан, а теперь еще и агент сверхцивилизации. Угрюмый запретил мне работать. Не могу сказать, чтобы я очень расстроился: получились отличные каникулы. Потом мы начали все снова. И боль вернулась: за каникулы я разучился впадать в «нирвану». А как только опять ощущалось привыкание, Угрюмый объявлял новый перерыв. Так мы и работали – циклами. Но, конечно, это был не выход. Любопытство, если не его, то мое, рано или поздно должно было взять верх. А ведь я хотел навсегда расстаться с болью. И, может быть, еще больше я хотел узнать, что тогда произойдет. И осуществление этого желания полностью зависело от меня. От моей честности. К тому же я свято верил в добрую волю Апельсина. Так что просто не мог не нарушить установки Угрюмова. И все-таки не нарушал. И все-таки ждал чего-то, вновь и вновь перенося нечеловеческие боли. Это может показаться неправдоподобным, но это было. И довольно долго – больше года.
И все это время то ли из солидарности, то ли просто чтобы заглушить тоску и страх – и того и другого было в достатке, — Алена с Альтером планомерно занимались самоистязанием. Это был мазохизм, возведенный в культ, мазохизм, ставший главным делом жизни и горячо одобренный, кстати, Угрюмовым. «Ты работаешь, — говорил мне Альтер, — и мы работаем. Оставь за нами такое право. У тебя боли – и у нас будут боли». «Но это же идиотизм!» — кричал я. «Нет, — возражал Альтер, — спроси Угрюмого. Наука должна понять пределы наших возможностей». Плевать он хотел на науку. Я это знал. Потому что и сам в то время не только ради науки мучался. Они истязали друг друга и каждый себя, находя в этом патологическое удовольствие, единственное настоящее плотское удовольствие, оставленное нам, монстрам, и потому особенно сладкое. Еда и сон, перестав быть необходимостью, не радовали больше, хотя вкусовые ощущения сохранились у нас во всем объеме, да и приятная сонливость, этакая имитация усталости, не отличаемая от естественной, вызывалась в организме легко, если было нужно. Да только не нужно было. Обманывать самого себя? Противно. Неожиданно пресными сделались для нас и радости секса. Впрочем, здесь Альтер открыл массу новых возможностей, но и они, как правило, были связаны с болью. Боль для радости, боль для отдыха, боль для забытья… Боль заменила нам даже водку. А водка… Что она? Не действовал уже и чистый спирт. Хотя опять же при желании ничего не стоило поддаться опьянению. Мы были способны, как каттнеровский папаша Хогбен, одним усилием воли превращать в своем организме сахар в алкоголь, и даже еще проще – сразу вызывать состояние эйфории в мозгу. Могли. Но не делали этого. Мне – было просто не до того. Я становился общественным деятелем галактического масштаба – какое уж там, к черту, пьянство! Альтер же с Аленой стали наркоманами от мазохизма, и опьянение казалось им теперь не более, чем детской забавой.
Начинали с обычной наркомании: морфий, героин, кокаин, амфетамин… Потом перепробовали все известные науке галлюциногены. Эффект был порою сильным, но мимолетным и всегда однократным: освоив препарат, организм переставал на него реагировать. Следующим этапом стали отравляющие вещества. Алена особенно увлеклась лакриматорами, она их называла «слезы счастья». Альтер чисто по-мужски предпочитал стерниты. «Мой нюхательный табак», — шутил он. Общеядовитые и кожно-нарывные пользовались общим успехом, но особый восторг вызывали, конечно, нервно-паралитические. Это был крепкий орешек – приходилось начинать с малых доз. А удостоверившись полностью в своей химической стойкости, ребята перешли к испытаниям температурным, электрическим, магнитным, радиационным и наконец – к опытам по регенерации не только тканей, но и отдельных частей тела. Альтер хотел сначала уничтожить палец в воронке питания, потому что растворить его в кислоте или сжечь не удавалось, но в последний момент струхнул – жалко все-таки палец, мало ли что – и отрубил его топором. А ля отец Сергий. Результаты превзошли все ожидания. Отрубленный палец прирастать обратно не захотел, зато в течение нескольких часов вырос новый, поначалу как будто уродливый, кургузый, но под конец ставший совершенно нормальным. После такого успеха самое время отхватить руку или ногу, но тут-то и подоспел Угрюмый с предложением сделать надрез, дабы проверить вполне ли восстановился утраченный кусок плоти. И когда Альтер привычным жестом полоснул по коже, академик наш побелел, как полотно: под разошедшейся тканью не было крови и мышц. Там был один сплошной оранжит.
Это случилось немногим позже моих «впадений в нирвану», Угрюмый еще не успел прочухаться от первого потрясения, и второе застигло его врасплох. Все опыты были приостановлены, самовольные мазохистские развлечения запрещены. Вплоть до окончательного выяснения всех обстоятельств. Глупо звучала такая формулировка. О каком окончательном выяснении могла идти речь? И о каком запрещении? Кто и что мог нам запретить? Под страхом чего? Так что запрет Угрюмова соблюдался не более, чем любой врачебный запрет. На новые, оригинальные эксперименты не решались – сами сдрейфили после истории с пальцем, но старые, проверенные методы истязаний были по-прежнему в ходу, и Оранжевая вилла, особенно по ночам, все так же оглашалась истошными криками и стонами, на которые сбегались с окрестных гор шакалы и выли, не замолкая, до рассвета, тоскливо и жутко.
Я не написал ни слова о Ленке. Она не расплачивалась сверхмигренями за новые конструкции сибров и почти не принимала участия в диких играх наших двойников. Но настал день, настал час, и она тоже получила свою особую, персональную порцию боли.
С самого того дня в Пансионате, когда Угрюмый сообщил нам о стерильности, а потом как бы в утешение обмолвился, что это не окончательный приговор, Ленка, именно Ленка (Алена ушла от этих проблем) была одержима мечтой о ребенке. Сначала она потребовала всестороннего анализа своих возможностей в этом плане. Анализ был проведен, после чего Угрюмов туманно намекнул, мол есть пути, да малоизучены (пока!) и никто за лечение не возмется. Тогда Ленка сама отыскала ведущего специалиста по бесплодию, сама связалась с ним, и этот немец Вальтер Траубе, разумеется, очень скоро получил постоянную прописку на нашей вилле. Не могу сказать, чтобы соседство этого самовлюбленного гинеколога, за свою клиническую практику подарившего радость материнства не одному десятку женщин, слишком радовало меня. В возможность Ленкиной беременности я не верил, хотя и заразился уже какой-то безумной надеждой. А постоянные осмотры, процедуры, испытания новых средств, бесконечные разговоры, — а Ленка ни о чем другом говорить уже не могла – раздражали с каждым днем все больше. Но я сдерживался, я заставлял себя относиться серьезно и к этому бзику: что поделать, каждый из нас сходил с ума по-своему. Наверно, где-то в глубине души я и сам мечтал быть отцом, но в той, прежней жизни это желание просто не успело оформиться, а в новой я рассуждал так: нельзя – и не надо, хватает проблем и без того.