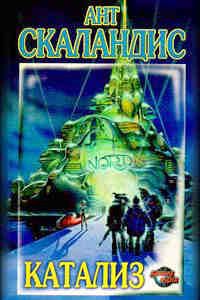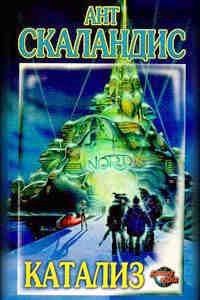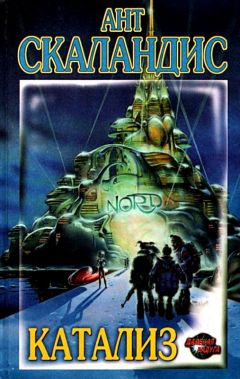Ант Скаландис - Катализ
Светку, чья скандальная известность переходила всякие разумные границы, тоже прятали на нашей вилле, а заодно и Самвела Тамразяна, с которым она познакомилась на вокзале, совершая свой «исторический» побег из Москвы. Знакомство получилось тогда обыкновенным: случайным, торопливым, даже грубоватым — Светка попросту наклеила Самвела, но он стал не только сообщником, помогшим скрыться, но и настоящим другом.
Самвел, тремя годами старше нас, учился в Москве в историко-архивном, а в день знакомства со Светкой был проездом из Прибалтики к себе домой в Санаин. Там он жил с матерью, а в Кировакане был у него дядя-художник, уехавший на год в Италию и оставивший племяннику ключи от мастерской. Частично, а именно в части задач практических, Светка открылась ему еще в поезде, и Самвел сразу, без колебаний, отвез ее в Кировакан, куда и сам вернулся очень скоро. Разумеется, в постель они легли раньше, чем Светка смогла окончательно убедиться в его надежности, но сразу после — терять было уже нечего — рассказала все. Самвел был в восторге. Он оказался мечтателем по натуре и нашу программу действий принял безоговорочно и сразу. Кроме того, у Самвела были свои, особые счеты с существующим миром. И была у него страсть — литература. Он писал. Рассказы выходили разные-то более, то менее удачные, но лучшими представлялись те, что об армии. И как раз их всюду наотрез отказывались брать, хотя вообще-то кое-что у Самвела в печать прошло.
После школы он имел возможность сразу поступить в институт, но, точно следуя принципу любимого им Экзюпери «прежде, чем писать, нужно жить», работал сначала на заводе, а потом пошел в армию. И армия его ужаснула, армия ошарашила, армия сделала его другим. Там было тяжело и отвратительно. Но он никогда не жалел, что выбрал именно такой путь. Кто-то ломался на всю жизнь, кто-то становился подонком, кто-то учился быть равнодушным, а у него именно там, в учебном батальоне химвойск, родился первый настоящий цикл рассказов.
«Письмо домой». Лейтенант, командир взвода, на общих занятиях читает вслух вскрытое письмо новобранца, в котором тот жалуется на притеснения и издевки, а весь взвод смеется, хотя каждый отлично понимает, что не сегодня, так завтра окажется сам на месте осмеянного.
«Пряжка». У одного из первогодков пропадает пряжка от ремня. Он ворует ее у товарища, тот у другого, другой у третьего, и так до тех пор, пока единственный, оказавшийся честным, не получает наказание. А в итоге оказывается, что пряжку специально украл сержант, решивший проверить, кто есть кто, и просто позабавиться.
«Цепная реакция». Очень коротенький рассказ. Описывается психология «деда», который с наслаждением бьет «салагу», вспоминая, как били его, а «салага» терпит и мечтает о времени, когда сам станет «дедушкой», и уж тогда отыграется… на молодых.
Но, наверное, самым сильным был рассказ «Поскорей бы война», где солдатик, всю ночь по приказу сержанта чистивший иголкой унитаз и оставленный в покое за полчаса до подъема, лежит, жутко хочет спать, но заснуть уже не может и думает: «Ротный замполит говорил, помнится, что война может начаться в любой день. Так уж поскорей бы она начиналась. Тогда, как только мы пойдем в атаку, я убью нашего сержанта. Из автомата. Забежав вперед. И никто ничего не заметит… Поскорей бы война…»
Рассказы так и не были напечатали. В те годы, когда можно стало говорить обо всем, Самвел сам отказался от их публикации. «Слишком мелко, — сказал он, — теперь слишком мелко». А после его смерти я так и не сумел разыскать столь любимые мною рукописи. Но в чем-то Тамразян, безусловно, был прав. Литература, как и весь мир, шагнула в новую эру, мгновенно устарело все, казавшееся актуальным, и даже многое из того, что считалось вечным. Проблемы злободневные и проблемы ближайшего будущего в один день стали историей. Разумеется, исторические вещи тоже требовались, но сколько их написано, а никто не сказал лучше и короче Воннегута: «История — читай и плачь». Самвел не хотел плакать, Самвел хотел создавать новую литературу. И мы еще торчали в Пансионате, а он там, в Кировакане, уже начал свою первую большую вещь, сделавшую его знаменитым — «Рваный роман». Остальным семи его книгам тоже сопутствовал успех. Даже тем, в которых он, пойдя на поводу у моды, писал целые главы на кавказской мультилингве. В мире, где каждый человек стал способен выучить все языки, стало не принято писать на «монолингве», то есть на каком-то одном наречии. Мультилингва вошла в литературу вместе с именем Осипа Кальтенберга, написавшего свой знаменитый роман «Люди» на девяносто шести языках. И это была настоящая симфония слов и звуков. Но не все так виртуозно владели новой манерой, и мультилингва, пройдя все стадии от чередования глав и абзацев на родственных или нарочито далеких языках до создания неологизмов, неограмматик и даже новых букв, как водится, вышла из моды. Остались лишь лучшие книги и лучшие имена, и имя Самвела — среди них.
Светка, прошедшая с ним всю жизнь, всегда повторяла, что Вел, так она звала его, предвидел свой триумф с того самого дня, как узнал о сибрах. Он сказал ей тогда: «Вот и настал мой звездный час». И я не сомневаюсь, что честолюбивые планы оказали не последнее влияние на политические симпатии Самвела, но все-таки главной причиной, повернувшей его на путь сотрудничества с нами, была его ненависть к войне, к армии, к идиотизму муштры, к массовому оболваниванию, к страшной науке убивать. Ведь сибр всему этому должен был положить конец.
Я так много пишу о Тамразяне, потому что он стал нашим другом в те дни, когда, оказавшись вшестером в Гантиади, в тихом, защищенном от всех бурь уголке сорвавшегося с цепи и готового разлететься вдребезги мира, чувствуя себя то счастливыми избранниками судьбы, а то мучениками, мы были связаны узами совершенно особенного братства и даже как бы забывали, что Светка и Вел находятся совсем не в равных условиях с нашей бессмертной четверкой. И лишь об одном я не мог забыть — о собственном абсолютно исключительном положении.
Я был создателем сибра. Я был хозяином сибра. Я был страшнейшим оружием, по мнению многих. А по мнению некоторых, я был нечеловеком. Но главное — и это не вызывало сомнений — я нес ответственность за всю цивилизацию. Поначалу казалось, что мой единственный крест — искушение вновь применить проклятый ЧКС, человеко-копирующий сибр. Если бы! Очень скоро я понял, что на мне теперь лежит почти все. А то, что не лежит — пока не лежит — будут пытаться сложить, спихнуть, повесить на меня, именно на меня, всегда на меня, только на меня.
И первое же, что почти сразу на меня попробовали свалить, была верховная единоличная и абсолютная власть над миром. Но я отказался. Решительно и публично. Не по мне это было — ежечасно, ежеминутно, ежесекундно держать в руках судьбы миллионов и повелевать ими. Свой долг перед человечеством я видел в другом. И мне пошли навстречу — я стал генеральным консультантом Чрезвычайного комитета по урегулированию, позднее — автоматически — консультантом Всемирного Координационного Совета, а еще позднее — членом этого Совета. То есть я все-таки согласился на реальную власть. Но к тому времени и власть стала другой, и я уже был не тем горячим юнцом, который мечтал о внезапном и окончательном счастье для всех. К тому времени я просто уже знал, что властью наделен свыше, и не в моих силах спрятаться от нее за ролью консультанта или за какой угодно другой ролью. Наверно, я понял это по-настоящему, когда однажды в частном разговоре с одним из президентов высказал недовольство работой шефа службы безопасности Александра Моргана. На следующий же день Морган был выведен из Совета. Я тут же опротестовал решение специальной комиссии. Но было поздно. Морган покончил с собой. Я не знаю, что именно думал он про меня и мои чудовищные возможности, но именно тогда я понял, что они слушаются меня не только из уважения.
Они боялись меня.
Они боялись меня больше всего на свете, и здесь, в Оранжевой, они не только и не столько охраняли меня от мира, сколько они мир охраняли от меня. Будучи консультантом, судьей, диктатором и Богом, я оставался еще и подопытным кроликом, но кроликом опасным, кроликом хищным, кроликом апокалиптическим. конечно, Оранжевая — не Пансионат, но Угрюмов бывал у нас чаще, чем у себя дома, в Киеве; Якунин, наш дорогой Папа Монзано, гостил то и дело; а целые толпы экспертов наезжали и паслись на вилле с удручающей регулярностью.
После самоубийства Моргана, повергшего всю нашу шестерку в уныние и тоску (хотя никто из нас его не любил, и, по совести говоря, туда ему и дорога), я стал значительно осторожнее, стал взвешивать каждый свой поступок, каждое слово, каждый взгляд. Но куда там! Ведь достаточно было порой одного движения пальцем, одного дуновения мысли, чтобы убить сотни, тысячи, миллионы людей. И я убивал. Убивал. Убивал, сам того не желая. Убивал. Во всяком случае мне казалось, что это убивал я. А как же считать иначе, если ставишь свою подпись под проектом, директивой, законами, а потом на основании этих документов кто-то гибнет в непродуманном эксперименте, кто-то кончает жизнь самоубийством, а кого-то ставят к стенке? Как еще можно расценивать свою роль в таком деле?