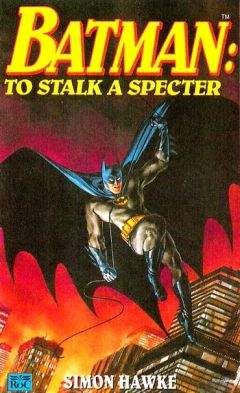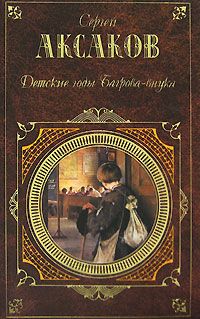Саймон Логан - i-o
Я никогда не сплю; по большей части я смотрю в единственное окно времянки на странные узоры, которые дым, вырывающийся из труб, рисует на бескрайнем, огромном черном небе, на котором звезды кажутся просто заклепками.
Но этой ночью, перед тем как начать смотреть в окно, я сначала проверил мою Призму — именно такое имя для нее бессознательно родилось в моем мозгу, — потому что меня терзал бессмысленный панический страх; я боялся, что она исчезнет, когда я проснусь. Я прикоснулся к брезентовому полотнищу, покрывавшему ее, почти уверенный в том, что обнаружу под ним пустоту.
Мои гидравлические легкие зашипели от облегчения, когда я нащупал Призму под полотном. Я откинул полотнище с того угла, где находилась выпуклость, которая, если бы речь шла о человеке, могла бы называться грудью. Словно зачарованный я смотрел на нее, а она сверкала в ответ, словно ведя со мной беседу при помощи бликов и отражений. У нее были тысяча граней, тысяча лиц, отражавших окружавшее нас убожество, но не повторявших его, а, напротив, каким-то волшебным образом делавших мир прекраснее и совершеннее. В одной из граней отражалось мое лицо, и черты его больше не были изуродованы дыхательным аппаратом; оно было ничем не хуже других, обычных лиц — даже лучше. Я пошевелил челюстью, и отражение повторило это движение вслед за мной.
Я почувствовал желание наклониться и прижаться губами к Призме, но тут мои глаза заметили еще одно отраженное лицо. Быстро обернувшись, я успел заметить тень, мелькнувшую в окне времянки. Торопливо я снова укрыл Призму полотнищем и, для большей надежности, загородил ее старым штамповочным станком, который некогда использовался для чеканки монет.
Выглянув, я увидел за стеклом несколько инженеров, бродивших среди металлолома, время от времени пробуя на зуб ржавую стальную платину или кусок колючей проволоки. Я чувствовал, что им очень хочется посмотреть в мою сторону; это было видно по тому, как отчаянно они делали вид, что этого им совсем не хочется. В их движениях было что-то от насекомых.
Я видел, как любопытство гложет их. Они знали, что я припрятал что-то интересное.
Я им никогда ее не отдам.
Так продолжалось изо дня в день.
Каждую минуту мне нестерпимо хотелось посмотреть на Призму, чтобы убедиться в том, что я действительно нашел ее, но с каждым днем я все больше и больше боялся сделать это, опасаясь, что, снедаемые любопытством, мои собратья ворвутся в этот миг в мою времянку. Не раз я заставал кого-нибудь из них за подглядыванием в окно, и с каждым разом становилось все труднее удерживать их на расстоянии, когда приходило время поединков. Теперь мне начало казаться, что они вызывают меня на драку лишь для того, чтобы выманить наружу и получить ответ на основной волновавший их вопрос.
А именно — почему я веду себя так странно.
В одну из ночей они сумели выманить меня из времянки на большее расстояние, чем обычно, завладев моим вниманием, и тогда змееподобное существо, занимавшееся чисткой дымовых труб, чуть было не проскользнуло в дверь у меня за спиной. Я с силой захлопнул дверь, слегка прищемив при этом его чешуйчатую плоть, на что толпа отреагировала громкими криками и принялась швыряться в стены моей времянки чем ни попадя.
Вскоре после этого я заделал окно куском листового железа, намертво приклепав его к стенке времянки, — я больше не хотел их видеть.
На следующий вечер, когда они начали стучать в дверь, я им просто не ответил. И на второй вечер тоже.
Теперь я стал скрываться внутри, днем занимаясь, как обычно, работой, а вечерами прислушиваясь к отдаленным звукам драки. Лязг металла, стоны и крики боли. Хруст, скрежет, треск рвущейся ткани. Пока они сражались, я нежно гладил Призму, лежавшую под ее грубым покровом, а вскоре я начал попросту заползать под брезент и прижиматься к ней в маслянистом ночном мраке.
Она научила меня красоте, о существовании которой я прежде не подозревал. В гранях ее лица отражались все возможности, все вариации. Виды живых существ: каждый столь же уникален, как и другой. Дали заоблачные. Она научила меня чуду существования.
В благодарность за это я драил ее и чистил. Я ласкал ее словно влюбленный и запоминал каждую ее грань. Я знал на ощупь ее форму: она научила меня самосовершенствованию.
Она искрилась для меня одного.
Затем все чаще и чаще стали выдаваться вечера, когда мои собратья вместо того, чтобы сражаться друг с другом на пыльной арене, вымещали свою ярость на моем вагончике. Они молотили куликами по его тонким металлическим стенам, кричали и вопили, скребли по ржавчине скрюченными пальцами. Крыша прогибалась под их весом, когда они забирались на нее. Они даже пробовали грызть лист стали, которым я заделал окно.
А меня все равно тянуло к беспредельному сиянию Призмы. Теперь я дерзко отваживался на несколько мгновений стянуть с нее покров, позволяя ей озарить своим сиянием времянку, чтобы уничтожить хотя бы малое количество мерзости, наполнявшей мое жилище. Возможно, я даже надеялся на то, что этот блеск отпугнет моих врагов или даже преобразит их так же, как преображались их отражения в ее гранях. Но ни того ни другого не произошло.
Хотя мне иногда казалось, что не понятно, кто из нас кого охраняет.
Но мне было отпущено немного времени: оно таяло у меня на глазах, расплываясь, словно пятно, перед моими подслеповатыми глазами. Воздух, которым я дышал, начинал отдавать ржавчиной: судя по всему, баллоны у меня за плечами были близки к истощению, и их вскоре следовало заменить. Мои собратья, очевидно, знали это не хуже меня, потому что баллоны заменяли и у меня и у других всегда в строгом соответствии с графиком, — именно поэтому вечерами они совсем перестали тревожить меня. Вместо этого они, словно шакалы, шастали вокруг времянки, так что я слышал только их перешептывание и осторожные шаги.
Поэтому и они, и я напряженно ждали наступления следующей смены, во время которой и должны были заменить баллоны. Тем вечером я нежно поцеловал Призму в каждую из ее граней.
Я предчувствовал этот миг на протяжении уже многих смен.
Я стоял за дверью моей времянки, слегка прижав уродливые ладони к ее холодной поверхности, и прислушивался к подозрительному затишью, наступившему снаружи. Я тщательно укрыл Призму и забаррикадировал подступы к ней тяжелыми предметами, прекрасно понимая, что все это не поможет. Три метра на три — вот и вся моя времянка; на такой площади вряд ли можно что-нибудь спрятать.
Я снял засовы и, выждав минуту, чуть-чуть приоткрыл дверь. Снаружи было довольно светло; резкий свет городских фонарей отражался от низких облаков. Ветер крутил по земле крошечные пылевые смерчи. Я внимательно огляделся вокруг, но повсюду, насколько хватало взгляда, не было и следа новых баллонов.
Я уже чувствовал покалывание в легких, виски ломило от плохого кровоснабжения. Все мои мышцы были вялыми и малоподвижными.
Я приоткрыл дверь пошире, увидел новый баллон, который лежал на утоптанной пыли, и тут же заметил одного из моих противников, который сидел на корточках возле кучи старой арматуры. Баллон лежал прямо посреди их дурацкого ринга. Я даже видел, что во-круг моих новых лёгких валяются отдельные части тел, оторванные в ходе поединков. На земле виднелись следы — они тащили баллоны волоком, чтобы переместить их подальше от моего жилища.
Я не знал наверняка, в состоянии ли я преодолеть такое расстояние.
Я даже не был уверен, стоит ли пытаться сделать это.
Возможно, мне просто предстоит умереть, отражаясь в гранях Призмы. Возможно, я бессмертен, пока отражаюсь в них. Возможно, сам этот мир длится, только пока он отражается в ее гранях.
Затем я заметил какое-то движение, и на площадке появились остальные. Стекла в защитных очках, которые носят сварщики, бросали блики света.
Они готовились к этому моменту ничуть не меньше меня.
Они медленно выползали на открытое пространство — паукообразные, сверкающие металлическим блеском твари. Тщательно следя за моей реакцией. Некоторые из них пытливо вглядывались в темноту за дверью, пытаясь догадаться, что я прячу в своем жилище.
Им не суждено узнать, как совершенна Призма и как она опасна в своем совершенстве.
Я и сам не познал до конца все ее тайны. Наверняка, она отразила бы для меня еще много удивительных вещей, если бы у меня было больше времени. Возможно, мне даже удалось бы придумать, как вытащить ее из времянки, чтобы она смогла отражать больше вещей. Она явно не исчерпала всех своих возможностей. Я закрыл дверь за собой и впервые за много дней оказался на открытом воздухе. Воздух этот, впрочем, был настолько загрязнен, что от контакта с ним чесалась кожа, а легкие коробились. Я откашлялся в литую пластмассовую маску, прикрывавшую мой рот, и почувствовал, что падаю в обморок, по все же удержался на ногах. Осторожно, сопровождаемый взглядами сотен глаз, я сделал первый шаг.