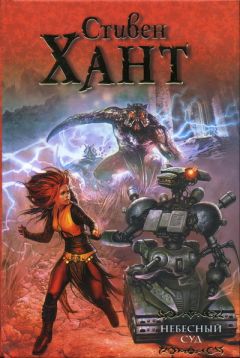Уильям Гибсон - Зимний Рынок

Обзор книги Уильям Гибсон - Зимний Рынок
Уильям Гибсон
ЗИМНИЙ РЫНОК
Здесь слишком много дождя. Зимой бывают дни, когда за размытой серой мутью совсем не видно света. Но бывают и такие, когда кажется, что кто-то отдёргивает вдруг штору, минуты на три ослепляя сиянием залитых солнцем и будто парящих в воздухе гор, эдаким логотипом перед началом снятого Господом Богом фильма. Вот в такой день мне и позвонили её агенты. Из глубин зеркальной пирамиды на бульваре Беверли мне сообщили, что её уже нет, что она уже в сети и что «Короли сна» скоро станут уже трижды платиновыми. Я редактировал бόльшую часть «Королей», делал всю работу по брэйн-карте, не говоря уж о записи и монтаже — так что и мне причитались кое-какие авторские.
«Нет, — сказал я, — Нет». Потом: «Да, да». И повесил трубку. Куртка в руке, проносящаяся под ногами лестница, ближайший бар и восьмичасовая отключка, что закончилась на бетонном уступе, в паре метров над полночной водой залива Фолс Крик. Городские огни, та же серая чаша неба, только ставшая пониже и подсвеченная теперь неоновыми и ртутными лампами. И снег, крупные редкие снежинки, исчезавшие без следа едва коснувшись чёрной воды. Я смотрел вниз, на носки туфель, что выступали за край бетона, на воду между ними. Туфли были японскими, новыми и дорогими, из Гинзы. Тонкая перчаточная кожа, резиновые носы. Я долго стоял там, прежде чем сделать первый шаг назад.
Потому что она мертва, и это я дал ей уйти.
Потому что теперь она бессмертна, и помог ей в этом тоже я.
И потому что знал: она обязательно мне позвонит. Утром.
Мой отец был инженером звукозаписи, занимался мастерингом и застал ещё доцифровые времена. Те технологии, что они использовали, были ещё большей частью механическими — это неуклюжее квази-викторианство вообще было свойственно технологиям двадцатого века. Можно сказать, он был просто токарем: превращал звуки в дорожки на покрытом лаком диске. Потом с помощью гальванопластики делались пресс-формы, которыми и штамповали записи — те круглые чёрные штуки, что можно увидеть в антикварных магазинах. И я помню, как за несколько месяцев до смерти он рассказывал мне, что резкие скачки частоты — вроде бы так он это называл — могли запросто пережечь головку. Ну, ту, что делала дорожки. Эти головки стоили кучу денег, поэтому для их защиты применяли нечто под названием «акселерометр». Вот об этом я и думал, стоя там, над водой: «головка… пережгли…»
Именно это с ней и случилось.
И именно этого она хотела сама.
Не нашлось акселерометра для Лайзы.
По дороге к кровати я отключил телефон. Рабочим концом немецкого студийного штатива — ремонт обойдётся в недельную зарплату... Потом проснулся, взял такси и отправился обратно к Рубину, на Грэнвил Айлэнд.
Рубин каким-то непонятным образом воспринимается как повелитель, учитель — японцы называют таких «сэнсей». Хотя… Если чем он и повелевает — так это хламом, барахлом, мусором, тем морем отбросов, в котором плавает наш век. «Гόми-но сэнсей». Повелитель мусора.
На этот раз я нашёл его присевшим между двумя зловещего вида ударными установками — раньше я их у него не видел. Ржавые паучьи лапы выгибались из скоплений помятых стальных барабанов, выловленных на свалках Ричмонда. Он никогда не называет это место студией, да и вообще не считает себя художником. «Просто дурака валяю» — так Рубин определяет то, чем здесь занимается и, похоже, смотрит на это, как на продолжение скучной мальчишеской возни на каком-нибудь заднем дворе. Его захламлённый, заваленный чем попало мини-ангар примостился на краю Рынка, и Рубин бродит по нему в сопровождении самых умных и шустрых из своих созданий, бродит как добродушный Сатана, погружённый в разработку ещё более странных процессов для своего персонального мусорного ада. Как-то раз он научил свои конструкции распознавать и материть посетителей в одежде от самых модных дизайнеров сезона, другие его творения предназначались для ещё менее понятных целей, а некоторые, казалось, вообще были созданы исключительно для саморазрушения с максимально возможным шумом. Рубин — он как ребёнок, но в то же время его работы стоят бешеных денег в галереях Токио и Парижа.
Я рассказал ему о Лайзе. Он дал мне выговориться, затем кивнул:
— Знаю. Какой-то урод из Си-Би-Си звонил мне уже раз восемь, — он отхлебнул из помятой кружки. — «Дикой индейки» хочешь?
— А тебе почему звонили?
— Потому что моё имя на обложке «Королей сна». Ну, там где «Посвящяется…»
— Я ещё не видел альбом.
— Так она тебе пока не звонила?
— Нет.
— Позвонит.
— Рубин, она умерла. Её уже даже кремировали.
— Да знаю я… Но она ж обязательно тебе позвонит.
Гоми… Где заканчивается гоми и начинается собственно мир? Японцам ещё с сотню лет назад стало некуда сваливать гоми вокруг Токио — так они придумали создавать из него жизненное пространство. В 1969-ом построили себе в Токийском заливе маленький островок из гоми и окрестили его «Остров Мечты». Но город продолжал исправно поставлять свои девять тысяч тонн ежедневно, и они построили «Новый Остров Мечты»… А теперь процесс отлажен, из Тихого океана поднимаются всё новые острова. Рубин видит это в новостях, но ничего не говорит.
Ему нечего сказать о гоми. Ведь это его среда обитания. Воздух, которым он дышит. То, в чём он плавает всю свою жизнь. Он мотается по округе в переделанном из древнего аэродромного «Мерседеса» грузовичке, крышу которого закрывает переваливающийся из стороны в сторону полупустой резиновый баллон с природным газом. Он постоянно ищет что-то под те странные чертежи, что небрежно нацарапаны внутри его черепа кем-то, кто работает у него за Музу. И он тащит домой гоми. Иногда гоми оказывается ещё рабочим. А иногда — ещё живым. Как Лайза
Я встретил Лайзу на одной из вечеринок у Рубина. Он часто их устраивает. По Рубину не скажешь, что эти вечеринки доставляют хоть какое-нибудь удовольствие ему лично, но всегда удаются на славу. Я и счёт потерял, сколько раз за ту осень просыпался на куске «пенки» под рёв древнего кофейного автомата, такого потускневшего чудовища с большим хромированным орлом наверху. Этот рев, отражаясь от гофрированной стали стен, становится просто жутким, но одновременно и здорово успокаивает: кофе есть, значит и жизнь, вроде бы, ещё продолжается…
Впервые я увидел её в кухонной зоне. Это вряд ли можно назвать кухней — просто три холодильника, плитка и сломанная конвекторная печь — всё, естественно, притащено со свалок в числе прочего гоми. В общем, впервые я увидел её перед открытым холодильником с пивом. Оттуда падал свет и я разглядел её скулы, решительную линию рта… А ещё чёрный блеск поликарбона на запястье и блестящее пятно там, где экзоскелет натёр кожу. Я был слишком пьян, чтобы понять что это такое, скорей просто почувствовал — что-то тут не то… И поступил точно так же, как обычно поступали с ней все — просто переключился на другое кино. Вместо пива направился за вином, к стойке рядом с печью. Не оборачиваясь.
Но она разыскала меня. Подошла пару часов спустя, лавируя между людьми и горами хлама с той пугающей грацией, что запрограммирована в эти экзоскелеты. По тому, как она двигалась, я уже понял что это, но был слишком смущён, чтобы спрятаться, убежать или пробормотать извинения и смыться. Стоял как пень, обнимая какую-то левую девицу, пока издевательски-грациозно передвигавшаяся (точней, передвигаемая) Лайза не оказалась прямо передо мной. Её глаза чуть ли не светились от «фена», моя девица впала в тихую панику, вывернулась и исчезла, а Лайза застыла, зафиксированная своими тончайшими поликарбоновыми протезами. Глядя в эти глаза казалось, что слышишь её ноющие синапсы, какой-то невыносимо-высокий, ультразвуковой визг, с которым «фен» открывал каждую нейронную цепочку её мозга.
— Пойдём к тебе, — сказала она, и эти слова ударили как кнут. Наверное, я покачал головой. — Ну пойдём...
Там были и боль, и нежность, и удивительная жестокость. Я вдруг понял, что ещё никто и никогда не ненавидел меня так глубоко и отчаянно, как эта маленькая больная девчонка ненавидит меня сейчас, ненавидит за то, как я посмотрел, и как я отвернулся там, у холодильника с пивом.
И тогда я сделал то, что иногда делаешь, совершенно не понимая зачем, просто потому, что кто-то внутри тебя точно знает — по-другому нельзя.
И я повёз её к себе.
У меня две комнаты в старом доме на углу Четвёртой и МакДональд-стрит. Десятый этаж, лифты обычно работают. А если сесть на перила балкона и, держась за угол соседнего дома, откинуться назад, то можно увидеть небольшой вертикальный срез моря и гор.
По дороге от Рубина она не проронила ни слова, а я уже достаточно протрезвел для того, чтобы чувствовать себя очень неуютно, когда отпирал дверь и впускал её к себе.