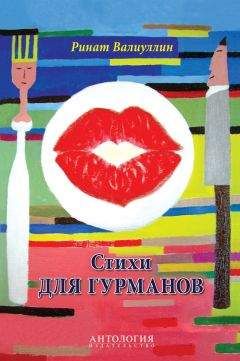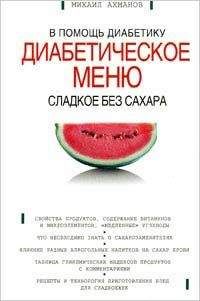Андрей Синицын - Поваренная книга Мардгайла
— Стареет Форсаж. Раньше, бывало, на потолок заворачивал.
— Что-то я не вижу Пузикова, — закрутил головой капитан. — Где штурман?
— Может быть, Псой Карлович случайно налепил на него алую бирку? — мстительно предложил сюжетец Гений Переделкин. Он не мог смириться с утерей полосатого столба-указателя.
— Шутки — за борт! — рявкнул Шкворень и постучался в каюту штурмана. — Владислав, ты здесь?
Никто не отвечал, из каюты раздавалось сопение и какая-то возня. Вдруг дверь распахнулась, и гигантская — около метра в диаметре — консервная банка с огромной надписью «Мидии со специями» выкатилась под ноги стоящим. У банки были четыре чешуйчатые лапки, чешуйчатый хвост и голова мимикродона Клавочки. Большие, навыкате глаза марсианской ящерицы слезились, она с трудом дышала открытым ртом.
— Эт-то что?.. — отпрянул капитан Шкворень.
— Это Клавочка, — упавшим голосом доложил поникший в дверях Пузиков. — Она мимикрировала. Изнутри.
— Я вижу, — ледяным голосом сказал капитан Шкворень, приходя в себя и раздуваясь, как рыба-шар. — Я даже догадываюсь что ты заставил проглотить бедное животное. Заставить бы тебя самого все это съесть. В наказание.
Штурман просиял лицом:
— Согласен!
Капитан прищурился.
— А как же Устав, Володенька? Будь наш корабль пиратским, стоило высадить тебя на каком-нибудь астероиде с одноместным куполом жизнеобеспечения, из еды дав только эти самые мидии.
Пузиков тяжело вздохнул и снова поник. Пожалуй, вечно питаться одними мидиями не смог бы даже он. Штурман сокрушенно покачал головой.
— Не могу я, Кешенька. Уйду из флота. Сил моих больше нет жевать белковую баланду. Согласен даже пойти на линию Туапсе-Анапа, лишь бы вгрызаться зубами в сочный шашлык и запивать его искристым вином!
Капитан потемнел лицом. Друг прилюдно предавал дело всей жизни, более того — основу их долгой дружбы! Имеется в виду не Устав, конечно, а любовь к звездам. Капитан был в растерянности. Долг и дружба бились в нем не на жизнь, а на смерть. Вся гамма и омега чувств отразилась на непроницаемом лице Шквореня.
Многие деликатно отворачивались, украдкой смахивая навернувшиеся слезы. Шкворень — это Гамлет сегодня! Впервые капитан не знал что делать.
— Если все так серьезно, — сказал Рудимент Милашкин, — то я берусь за два дня вывести колонию специальных бактерий-перехватчиков, нейтрализующих все острое-кислое-пряное на полпути изо рта в желудок.
На него посмотрели с напряженным недоумением.
— Вы почувствуете вкус на языке, — пояснил Милашкин, — а в желудок свалятся нейтральные, инертные, абсолютно безобидные питательные составляющие. Можно будет есть что угодно, и Устав нарушен не будет.
Пузиков расцвел на глазах.
— Правда?! — шепотом вскричал он.
Тут Клавочка издала громкий икающий звук и превратилась в нормальную ящерицу, а на пол высыпалась гора баночек «Мидии со специями». Штурман не таясь зачерпнул баночки обеими горстями и благоговейно поднес к лицу, словно золотые слитки. Всем тут же невыносимо захотелось мидий со специями. Бледная Клавочка со всех ног улепетывала по коридору.
— О, дьябль! — закрыв глаза, хлопнул себя по лбу Шаром Покати. Голос его дрожал. — Мой сьир!.. Гдие мой сьир?.. Он в козмозе, один, и его никто не кушать! Почем я не уйти вместе с мой сьир?!.
Теперь пришла пора смутиться капитану Шквореню.
— Ну, раз так, Рудимент, — неловко сказал он, пряча глаза, — то в ближайшее время на обед у нас будут… — Капитан глотнул и с хрипотцой произнес: — Мидии, пиво светлое с охотничьими колбасками, марципаны и цукатный заяц на десерт, вишневое варенье с косточками, колбаса чесночная, копченое мясо на ребрышках… Всего сейчас не вспомню, у Псоя Карловича длинный список.
Шаром Покати тут же отнял руку от лба и нормальным голосом спросил:
— А мой сьир?
— Да, да, — сказал Шкворень, — в смысле йа, йа.
Пузечкин вытаращил глаза и пальцем уперся капитану в китель.
— Никодим, ты тоже вез контрабанду?!
Капитан густо покраснел, одернул китель и ответил на редкость мирно:
— Нет, разумеется. Я просто не открыл двери каюты во время чистки, так как у меня не было мух.
Штурман набрал полную грудь воздуха, забыл выдохнуть и застыл. На его лицо выползала блаженная улыбка. Он уже видел мидии, красующиеся в центре стола. А вокруг них как по волшебству появляются малосольные огурчики, дымящаяся отварная картошечка, обильно приправленная маслом, грибочки сопливенькие в рассоле, в маленьких тяжелых запотевших рюмочках — ледяная до густоты водочка…
Пузиков застонал.
Биолог Рудимент Милашкин превзошел себя и справился за шесть часов. За это время как раз был накрыт стол.
В столовую вошли с опаской, будто она была заминирована.
Первым с порога заглянул Эрул Сумерецкий, повел носом и с подозрением поинтересовался:
— Гипноизлучатель выключен? Или мне мерещится? Длинный стол сверкал и ломился от яств, скатерти не было видно.
Сумерецкий с еще большим обалдением уставился на Федю. Бортповар был в смокинге, с белой астрой в петлице. Гладкие напомаженные волосы, сверкающие ботинки. На тщательно выбритом лице Феди присутствовала возвышенная отрешенность. Федя священнодействовал над великолепным столом, невидимыми точечными мазками поправляя неровно лежащую вилку, салфетку, зубочистку.
— Мерещится, — кивнул Сумерецкий и развернулся, чтобы выйти.
— Прошу садиться, — услышал он вслед. — Эрик, ты куда? Макарончиков захотел?
Когда уже вовсю звенели вилки, ложки, кружки и бокалы, а над столом видны были только орудующие локти, спины и затылки, в широкие двери столовой медленно въехал огромный белый цилиндр. Из-за него выглянул запыхавшийся и порозовевший А. Б. Сурд.
— Я придумал новую концепцию «Голода». Ведь голод — это когда есть нечего?
— В точности так, — сказал Пузечкин, вытирая масляные губы.
— Стало быть, — засуетился скульптор-кондитер, с напряжением снимая со сладкого монумента огромную крышку, — торт должен быть съеден…
Загремели стулья.
— Стойте, стойте! — воскликнул Сурд, загораживая собой произведение кондитерского искусства. — Не просто съеден, а желательно руками и с большой жадностью. А вот живописные остатки на дне и будут «Голодом».
— Гениально, — прошептал бортписатель Переделкин. Припав к тарелке, он обгладывал куриную ногу, жаренную под давлением, и косился на бокал красного вина.
А. Б. Сурд дал отмашку и уселся в сторонке с жадным взором театрального режиссера, наблюдающего предпремьерный прогон спектакля.
Цыкая зубами и засучивая рукава торт окружили, словно гоблины одинокого хоббита, истосковавшиеся по искусству члены команды и пассажиры звездолета.
Раздался звон посуды и грохот-падающих стульев, крики:
— Держи его! Слева заходи!
Пушистой шипящей шаровой молнией кот Форсаж выскочил из-под стола, наискось пронесся по столовой, инерция бросила кота на стену и даже немного завернула на потолок. Скребнув когтями, кот ввинтился в проем двери и исчез в коридоре. Следом за ним издевательски приплясывая и извиваясь неслась сосисочная гирлянда.
Отяжелевший пес Юмор оторвался от миски, из принципа сделал несколько заплетающихся шагов, тявкнул вслед Форсажу и улегся посреди столовой, расстелив обширные уши по полу.
Клавочке дали пару кочанов капусты и совершенно невозможно было определить, какие именно из десятка кочанов соответствуют сейчас мимикродону. Кочаны лежали горкой и не шевелились, сытая Клавочка спала.
Хомячок Парсек, легко придавленный куском эмментальского сыра, объевшийся и счастливый, валялся на столе возле локтя Жужелицына. Сам инженер электронных душ, нирванически прикрыв глаза, поглощал пиво из высокой кружки.
На дальнем конце стола невыносимо вальяжный Сумерецкий, облаченный в тройку и сверкая бриллиантовой заколкой на галстуке, неторопливо обсуждал с Федей тонкости приготовления семерной ухи.
Капитан Шкворень почти ничего не съел. На его тарелке скучал в одиночестве надкушенный бутерброд. Подперев щеку, капитан растроганно слушал мнемодатчики. Те хорошо поставленными сытыми голосами слаженно выводили:
Ешь ананасы, рябчиков жуй,
Хрупай лазанью, рубай нежных уток.
Я по секрету тебе расскажу:
Главное в жизни — желудок.
В звездной дали, возле внешних планет
О вечном загнешь ты без шуток.
Тебя перебью я уверенным «Нет!
Главное в жизни — желудок».
© Д. Поляшенко, 2005.
ЮЛИЙ БУРКИН
Потрясения обжоры
Какая вкусная бумажка… Я тихонько вздыхаю. Хочется ее съесть, но нельзя. Я непроизвольно тяну верхние лапки к письменному столу, но хозяйский ботинок настигает меня, и я отлетаю в угол.