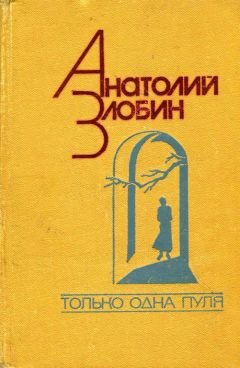Андрей Курков - Пуля нашла героя
— Да так, — Добрынин вздохнул. — Ты не знаешь, что с моими? С Манящей, с детьми?
Теперь Волчанов о чем-то задумался.
— Пошли назад, в Кремль. У меня в кабинете переночуем, — сказал он. — Да и попробуем про твоих узнать. А?
Осенняя вечереющая Москва, украшенная еще больше золотом уличных фонарей и светом троллейбусных фар, шумела радостно, наполненная жизнью и верой в будущее. Москва еще не знала о смерти Тверина. Москва будто бы еще жила прошлым.
Вернувшись в кабинет, Волчанов стоя набрал телефонный номер. Потом присел.
Добрынин тоже присел и смотрел не мигая на черный аппарат.
— Да? Полковник Омельченко? Тут такое дело… нужна папка семьи Добрыниных… по индексу: Добрынин Павел Александрович, народный контролер с…
— Тысяча девятьсот двадцать восьмого, — подсказал Павел.
Волчанов повторил в трубку.
— Я у себя… — сказал он потом. — Да, и ночевать здесь буду. Кстати, ты сегодня домой идешь? Да? Можно будет У тебя на ночь матрац с одеялом взять, ко мне старинный друг приехал? Ну добро, не забуду?
Опустив трубку, Волчанов посмотрел на Добрынина, и взгляд его был чист и светел.
— Порядок, — сказал он. — Через полчасика узнаем, что там с твоими, где они там…
Чтобы не ждать без дела, сходили друзья на четвертый этаж в дежурный ночной буфет. Выпили по чаю с двойным сахаром, съели по бутерброду с докторской колбасой. Когда вернулись — увидели у кабинета ожидавшего их с папкой в руках молоденького офицера.
Когда подошли, офицер вытянулся в струну и отдал честь генералу Волчанову.
Тот похлопал его по плечу, взял папку, и зашли они с Добрыниным внутрь. Снова сели по разные стороны письменного стола.
Волчанов развязал тесемочки, раскрыл папку. Полистал документы, потом оживился, вытащил несколько скрепленных листков и стал внимательно их изучать.
Добрынин из-за любопытства приподнялся, хотел перегнуться и заглянуть в эти бумаги.
— Ты извини, Паша, — остановил его Волчанов. — Понимаешь, эти документы только для служебного пользования. Тут уж порядок такой, ничего не поделаешь. Но все, что надо, я тебе вслух прочитаю. Добро?
— Ну, раз порядок… — Добрынин развел руками.
Он сидел и терпеливо ждал. Минут через пятнадцать Волчанов отвлекся от бумаг.
Лицо его было серьезным.
— В общем, — заговорил он немного замедленно, словно подбирал слова, — Маняша твоя умерла… От болезни. Похоронена там же, в Крошкино. Кавалер ордена Ленина, и вот медалей у нее много было… Петр, младший твой, в войну погиб… геройски. Ну а Дарья жива, живет в Киеве. Замужем, трое детей. Муж — инженермостостроитель, а сама Дарья — учительницей в школе. Вот так…
— Слушай, Тимоха, — проговорил упавшим голосом Добрынин. — У тебя тут выпить есть?
— Нет, не разрешают здесь, — сказал Волчанов. — Нам не разрешают, военным…
— Жаль, — Добрынин прикусил губу. — У меня в вещмешке есть фляга, но вещмешок милиционер забрал утром… на входе…
— А-а, — выдохнул Волчанов, — это не проблема! Сейчас!
И он позвонил на милицейский пост, приказал срочно принести ему находящийся у них вещмешок товарища Добрынина.
Народный контролер оторопелон никогда не слышал, чтобы Волчанов так громко и строго кричал на кого-нибудь, как он кричал в этот момент на дежурного милиционера.
Через минуту бледный милиционер занес вещмешок и тут же убежал как-то совершенно не по-военному. Не попрощавшись, не отдав чести.
— Ну, доставай! — Волчанов кивнул Добрынину на мешок.
Пока пили, поминая друзей, Ваплахова, товарища Тве-рина, зашел на минутку полковник Омельченко — принес скрученный и перевязанный бечевкой матрац и повоенному свернутое в «сосиску» зеленое одеяло.
На следующий день с шести утра тысячи репродукторов разносили по Москве тяжелую классическую музыку, прерываемую каждые десять минут официальным сообщением о смерти товарища Тверина.
Когда Добрынин проснулся, услышав эту музыку, Волчанова в кабинете не было. Его матрац и одеяло были уже скручены и лежали в углу.
Добрынин оделся, выпил воды из графина, стоявшего на подоконнике. Выглянул на улицу.
Окна кабинета выходили на Красную площадь. Добрынин увидел, как два десятка дворников под надзором милиционеров сметают с булыжника площади опавшие листья, собирают их в кучи и, полив бензином из канистр, поджигают.
Пришел Волчанов. Он выглядел свежим и бодрым. Одет был в штатское.
— Ну как, выспался? — спросил он Павла.
— Да.
— А я сходил венок нам выбрал. Знаешь, всегда в таких случаях лучше раньше прийти. А то я как-то задержался, кого-то из секретарей хоронили мы тогда, пришел за венком, а там уже только один оставался «От коллектива Второго московского мясокомбината». Так неприятно в душе было. Вот, думал, смотрят на меня люди на улице и думают — мясник идет! Форму ведь нельзя надевать.
— Почему? — спросил Добрынин, скручивая свой матрац.
— Это если закрытые похороны, если кто из наших умер, то можно, а если правительственные — черный костюм и галстук. Порядок такой…
Добрынин понимающе кивнул.
Завтракали они в дежурном буфете на четвертом этаже. Очереди там не было. Сонный буфетчик три раза переспрашивал Волчанова насчет заказанных яиц.
— Так в крутую или в мешочек? — голос его был сиплым.
— В мешочек! Сколько можно говорить! — рыкнул Волчанов.
Буфетчик кивнул и нырнул в подсобку, где стояла плита.
— Ну а какой ты венок выбрал? — спросил Добрынин, размешивая сахар в чае.
— «От рабочего класса Ленинского района Москвы». Красивый, еловые ветки и розы. Раньше таких не делали.
К одиннадцати часам Красная площадь была почищена и помыта. Дворники уже ушли, остались только милиционеры, стоявшие через каждые десять метров.
Печальная классическая музыка продолжала литься из репродукторов. Внутри Кремля сформировалась траурная колонна. В первых ее рядах стояли. Держа венок, Волчанов и Добрынин.
Подъехал военный тягач с орудийным лафетом, стал впереди колонны.
Какие-то люди в штатском суетились, бегали мимо. Венок показался Добрынину тяжеловатым. Суетливые люди подбежали к лафету, накрыли его красным ковром. Потом поднесли к лафету гроб, установили его ровненько на красном ковре.
Добрынин поднялся на цыпочки, пытаясь рассмотреть лицо лежавшего в гробу.
Лица не увидел. Но длинная седая бородка, торчавшая вверх, сразу бросилась в глаза.
Загудел мотор военного тягача. Добрынин приготовился, посмотрел на Волчанова. «Жизнь уходит, — подумал он. — И люди уходят за ней следом. Вот уже и товарищ Тверин ушел. Маняша, Петька на фронте погиб… Один Волчанов из старых друзей остался…» — Приготовиться! — раздался командный голос, и колонна подтянулась, подровнялась. Медленно тронулся тягач. Вышли из Кремля.
Репродукторы вдруг замолкли, а после минутной паузы знакомый голос Левитана стал читать скорбные строки официального прощания народа со своим руководителем.
Справа и позади остался музей Ленина. Вышли на Горького.
Улица была оцеплена — живой изгородью плечом к плечу стояли вдоль проезжей части милиционеры. За их спинами колыхалось человеческое море, тысячи лиц со слезами в глазах.
Левая рука у Добрынина затекла, и он попросил вполголоса Волчанова поменяться местами.
— Терпи, — сказал Волчанов. — Ради него терпи, — он указал взглядом на ехавший впереди на лафете гроб. — Нельзя на ходу нарушать порядок.
Добрынин кивнул и посильнее схватился левой рукой за необструганную доску конструкции венка.
«Надо терпеть, — думал он, словно убеждая себя. — Он ведь сколько терпел! Сколько он терпел!» И вспомнилось Добрынину, как жаловался ему товарищ Тверин на свою жизнь, на все эти ПНП и ПСВ, вспомнилось народному контролеру, как радовался Тверин каждой мелочи, как ценил дружбу, как хотел пойти в «Центральный» гастроном и купить себе пачку печенья «На посту». Хотел и не смог, потому что не отпустили его из Кремля. И тут вдруг заметил Добрынин, что проходят они как раз мимо этого гастронома. И сперло у него дыхание из-за внезапно пробудившегося волнения. Новые воспоминания хлынули, и выплыла из далекого прошлого картинка: он на белом коне едет по этой улице с мотоциклетным эскортом. Коня зовут Григорий, красивый, сильный конь. И вот он верхом по этой улице и тут впервые в своей жизни видит этот гастроном и бьет коня в правый бок, бьет что есть силы — так ему хочется заехать прямо на коне в открытые широкие стеклянные двери этого магазина. Но не слушается конь его, идет себе за едущей впереди машиной…
— Ногу смени, слышь, ногу смени! — донесся шепот Волчанова.
Добрынин словно очнулся от сна, быстро сообразил, сменил ногу.
Ярко светило красноватое осеннее солнце.
Длинная черная процессия медленно плыла к Белорусскому вокзалу.
Голос Левитана, сильный, громкий, льющийся из тысяч репродукторов, казался голосом самой Москвы, наполненной скорбью и горем. Иногда Добрынину казалось, что булыжник дрожит под его ногами из-за этого голоса. И не нужно было разбирать слова, чтобы понять, чтобы осознать произошедшую трагедию.

![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](/uploads/posts/books/148327/148327.jpg)
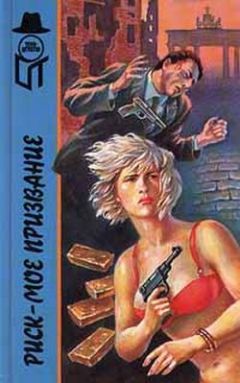
![Р. Гордон - Пуля для звезды. [Пуля для звезды. Киноманьяк. Я должен был ее убить. Хотите стать вдовой?]](/uploads/posts/books/148242/148242.jpg)