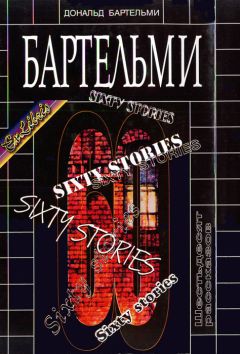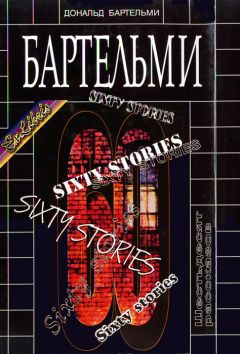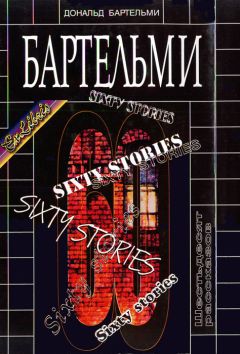Дональд Бартельми - Беглец
— Послушайте, — умоляет он, подбирается на два сиденья ближе, шепчет, — я знаю, что вы скрываетесь, и вы знаете, что скрываетесь, я вам признаюсь, я скрываюсь тоже. Мы нашли друг друга, мы взаимно смущены, мы следим за дверями, мы прислушиваемся, ожидая услышать грубые голоса, звук предательства. Почему не довериться мне, почему не бороться за общее дело, дни становятся длиннее, иногда мне кажется, что я глохну, иногда глаза закрываются без моего желания. Двое смогут видеть лучше, чем один, я даже готов сказать вам свое настоящее имя.
Все возможные чувства перед лицом вопиющей искренности: отвращение, отрешенность, радость, бегство, родство душ, сдать егог властям (власти до сих пор существуют). Ужели это не обстоятельства, перед которыми может болтаться в воздухе нагой Бчрлигейм, не та настоящая жизнь, риск и опасность, что в «Женщине Вуду», в «Твари из Черной Лагуны»?
Бэйн продолжает:
— Мое подлинное имя (как бы это выразиться?) — Адриан Хипкисс: это то, от чего я бегу. Представляете ли вы, что значит называться Адрианом Хипкиссом: хохотки, насмешки, бесчестье, это было невыносимо. И еще: в 1944 году я отправил письмо, в котором не сказал, то что знал, я съехал на следующий день, это был канун Нового Года, и все грузчики были пьяны, сломали ножку у пианино. Из страха, что это вернется и будет мучить меня. Моя жизнь с той поры превратилась в смену масок: Уотфорд, Уоткинс, Уотли, Уотлоу, Уотсон, Уотт. Полинное лицо исчезло, разлетелось вдребезги. Кто я, кто это знает?
Бэйн-Хипкисс начинает всхлипывать, включается система охлаждения, городская жизнь — ткань таинственных шумов, возникающих и пропадающих, пропадающих и возникающих, мы достигаем контроля над физическоим окружением только за счет слуха. Что если бы человек мог чувствовать, если б мог уворачиваться в темноте? Термиты-мутанты пожирают марионеток с огромной скоростью, награды — ученым, аппетитная красотка-медсестра — молоденькому лейтенанту, они завершат все это шуткой, если возможно, означающей: тут нет ничего реального. Обман существует на любом уровне, попытка отрицать то, что выявляет глаз, что разум осознает, как истину. Бэйн-Хипкисс напрягает мою доверчивость, кот в мешке. Если не (6) и не (1), готов ли я иметь дело с вариантом (2)? Должна ли тут быть солидарность? Но плач невыносим, неестественен, видимо, его следует оставлять на особый случай. Телеграмма посреди ночи, железнодорожные катастрофы, землятресения, война.
— Я скрываюсь от попов (мой голос странно нерешителен, срывается), когда я был самым высоким мальчиком в восьмом классе школы Скорбящей Богоматери, они хотели отправить меня играть в баскетбол, я отказался, Отец Блау, поп-физрук, сказал, что я, отлынивая от полезного для здоровья спорта, чтобы погрузиться во грех, не считая греха гордыни и других разнообразных грехов, тщательно перечисленных перед заинтересованной группой моих современников.
Лицо Бэйн-Хипкисса проясняется, он прекращает всхлипывать, а тем временем фильм начинается снова, марионетки еще раз выступают против Американской Армии, они неуязвимы, Честный Джон смехотворен, Ищейка неисправен, Ханжа подрывается на пусковой площадке, цветы пахнут все слаще и сильнее. Неужели они действительно растут под нашими ногами, и время взаправду проходит?
— Отец Блау мстил во время исповедей, он настаивал на том, чтобы знать все. И ему было что знать. Ибо что я больше не верил так, как должен был верить. Или верил слишком сильно, без разбору. Тому, кто всегда был чрезмерно восприимчив к лозунгам, им никогда не следовало говорить: Ты можешь изменить мир. Я намекнул своему исповеднику, что некоторые моменты ритуала омерзительно похожи на сцену воскрешения в «Невесте Франкенштейна». Он был шокирован.
Бэйн-Хипкисс бледнеет, он сам шокирован.
— Но поскольку он и так по праву был во мне заинтересован, то стремился наставить меня на путь истинный. Я не провоцировал этот интерес, он смущал меня, я думал совсем о другом. И виновен ли я в том, что во всем этом недокормленном приходе только я выделял достаточное количество гормонов и тщательно пережевывал суп и жареную картошку, которые были нашим ежедневным рационом, вынуждая свою голову и руки максимально приблизиться к баскетбольной корзине?
— Вы могли бы симулировать растяжение лодыжки, — резонно отметил Бэйн-Хипкисс.
— К сожалению, это было только начало. Однажды, посреди доброго Акта Покаяния, а Отец Блау совершает обряд с благочестивой злобой, я выпрыгнул из исповедальни и помчался между скамеек, чтобы никогда больше туда не возвращаться. Я миновал крестящихся людей, миновал маленькую негритянку, чью-то горничную, нашу единственную черную прихожанку, которая всегда сидела в последнем ряду с носовым платком на голове. Покинув Отца Блау, бесповоротно, с прискорбным осадком от наших еженедельных встреч: грязных мыслишек, злости, брани, непослушания.
Бэйн-Хипкисс передвигается еще на два сиденья (почему именно два за один раз?), голос почти срывается:
— Грязных мыслишек?
— Мои грязные мыслишки были особого, богатого деталями и зрительными образами рода. По большей части, они тогда касались Недды-Энн Буш, которая жила в двух домах от нас и была удивительно хорошо развита. Под ее окнами я скрючивался много вечеров, ожидая откровений красоты, свет горел как раз между шкафом и окном. Я был особо вознагражден несколько раз, а именно: 3 мая 1942 года, увиденным мельком знаменитым бюстом; 18 октября 1943, на редкость холодным вечером, перемещением трусиков с персоны в бельевую корзину на пару с последующим трехминутным обозрением нагой натуры. Пока она не догадалась выключить свет.
— Невероятно! — шумно выдыхает Бэйн-Хипкисс. Ясно, что исповедь неким неясным образом возвращает его к жизни. — Но этот священник, наверняка, подыскал какое-нибудь духовное утешение, совет…
— Однажды он предложил мне кусочек шоколадного батончика.
— В знак расположения?
— Он хотел, чтобы я рос. Это входило в его интересы. Ему мечталось о первенстве города.
— Но это был акт доброты.
— Все произошло до того, как я сказал, что не выйду на игру. В темной исповедальне с раздвижными панелями, лица за ширмой, как в «Малышке из замка», как в «Тайне дома Эшеров», он твердо отказывал мне в понимании этой озабоченности, совершенно естественного и здорового интереса к интимным женским местам, удовлетворявшегося незаконными способами, как в случае с окном. Вкупе с профессионально поставленными вопросами, для того чтобы вытянуть из меня все детали до последней, включая самоуничижение, и принудительным перерасходом батончиков, шоколадок «Марс» и просвирок, значение которых в периоды сексуального самовозвышения впервые бвло указано мне этим добрым и святым человеком.
Бэйн-Хипкисс выглядит обеспокоенным. Почему бы и нет? Это волнующая история. В мире полно вещей, вызывающих отвращение. Не все в жизни «виставижн» и «тандербердз». Даже шоколадки «Марс» обладают скрытой сутью, опасной в глубине. Искоренением риска пусть занимаются женские организации и фонды, лишь меньшинство — увы! — может быть великими грешниками.
— Вот так я и стал убежденным антиклерикалом. Не любил больше Господа, не ежился от слов «сын мой». Я бежал от ряс, где бы они не появлялись, предавал анафеме все, что прилично, богохульствовал, писал поганые лимерики, срифмованные под «монашку-какашку», словом, был в упоительном полном отлучении. Потом мне стало ясно, что это не игра в одни ворота, как казалось вначале, что за мной погоня.
— А…
— Это открылось мне благодаря брату-расстриге из Ордена Гроба Господня, не слишком сообразительному человеку, но сохранившему добро в тайниках сердца, он восемь лет проработал поваром во дворце епископа. Он утверждал, что на стене в кабинете епископа висит карта, и в нее воткнуты булавки, отмечающие тех из епархии, чьи души под вопросом.
— Господи всемогущий! — ругается Бэйн-Хипкисс, мне кажется, или тут слабо веет…
— Она дисциплинированно обновлялась коадъютором, довольно политизированным человеком. Каковыми, по моему опыту, является большинство церковных функционеров ниже епископского ранга. Парадоксально, но сам епископ — святой.
Бэйн-Хипкисс смотрит недоверчиво:
— Вы все еще верите в святых?
— Я верю в святых,
святую воду,
коробки для пожертвований,
пепел в Пепельную Среду,
лилии на Пасху,
ясли, кадила, хоры,
стихари, библии, митры, мучеников,
маленькие красные огоньки,
дам из Алтарного Общества,
Рыцарей Колумба,
сутаны и лампады,
божий промысел и индульгенции,
в силу молитвы,
Преосвященства и Высокопреподобия,
дарохранительницы и дароносицы,
звон колоколов и пение людей,
вино и хлеб,
Сестер, Братьев, Отцов,
право убежища,