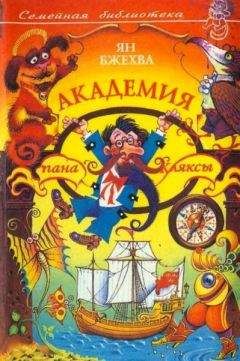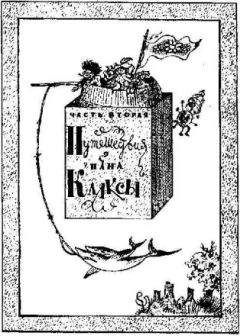Сватоплук Чех - Путешествия пана Броучека
Вскоре снова вошел старец и препроводил их в другую, обставленную еще более роскошными произведениями искусства, залу, где их ожидал стол, покрытый вместо скатерти великолепным полотном, написанным на исторический сюжет. На столе пока фигурировали лишь три изумительных по красоте хрустальные вазы с неописуемо прекрасными цветами, каких пан Броучек в жизни не видывал.
Мудрец пригласил гостей к столу и предложил цану Броучеку понюхать стоящий перед ним букет.
— Да, приятно пахнет, — с похвалой отозвался наш путешественник.
— Это букет из самых душистых лунных цветов, — пояснил хозяин.
— А-а-а!.. — восторгался из вежливости пан Броучек, вбирая ноздрями благовоние неведомой лунной флоры. А про себя думал: «Очень мне нужны твои цветы!.. Скорей бы подавали жаркое!..»
— Истинный философ не пренебрегает мирскими благами, — продолжал старец, нюхая свой букет, — но недолго уже осталось, мне наслаждаться ими. Утешает меня лишь сознание, что всю свою жизнь я посвятил успешному изучению самых величественных тайн вселенной и оставляю после себя бесценное наследие, которое я украсил всеми лунными добродетелями ив которое вложил всю возвышенную сущность моей души. Я имею в виду мою прелестную дочь, являющую собой для всех лунных дев блистательный образец совершенства. Такой воспитал ее я… Однако ты до сих пор не обонял своего букета, певец!
Влюбленный пиит рассеянно склонился над цветами и до-прежнему продолжал вздыхать.
— Так!.. А теперь я вам прочту главу из моей «Эстетики», — объявил старец, извлекши из хитона объемистую рукопись, — Надеюсь, землянин, ты останешься доволен и этим духовным лакомством.
«Премного благодарен… — вздохнул про себя пан Броучек. — Дорого же приходится платить этому лунному психу за один-единственный завтрак. Странный обычай — перед едой читать голодным гостям лунную галиматью!» Пока Лунобор растолковывал свое научное определение Прекрасного, наш герой хмуро ерзал в кресле, весьма сожалея, что оно не снабжено таким же потайным музыкальным механизмом, как и предыдущее.
Период за периодом непрерывным потоком лились из уст лунного философа, лишь изредка прерывавшего чтение настойчивыми уговорами: «А ведь ты опять не обоняешь, землянин! Обоняй без всякого стеснения!» — после чего пан Броучек всякий раз наклонялся к вазе с цветами и втихомолку ворчал: «Настоящий псих!..» Пан Броучек уверяет, что некоторое время слушал старца, но в потоке слов так и не сумел уловить сути, чему я охотно верю, ибо лунная философия, безусловно, много глубже земной, а ведь и в земной сам черт ногу сломит!
Вскоре пану Броучеку наскучило охотиться за неуловимой премудростью, и он начал строить догадки, что же за всем этим последует. Благодаря чародею Фантазусу вихрем пронеслись перед ним тарелки с соблазнительным содержимым. Неожиданно чародей превратился в чернофрачного официанта с красивыми золотистыми бакенбардами, с салфеткой в одной и тарелкой в другой руке. Послышалось знакомое, благостное: «Извольте, перчик!» — и вот уже дан Броучек блаженно повязывал вокруг шеи белоснежную салфетку. Куда-то исчезла сказочная комната лунного мудреца, и отовсюду пану Броучеку улыбались знакомые закопченные стены с не менее знакомой росписью, изображавшей веселых кутил; улетучились вазы с лунными цветами, вместо них на столе подле дымящихся фаршированных овощей появились перечница с солонкой и запотевшая кружка с зеленовато-золотистым нектаром, увенчанная пышной белоснежной пеной. Пан домовладелец в нетерпении схватил вилку с ножом и…
— О, горе, на твоих ресницах угнездился маковый божок и лишил тебя возможности выслушать наиболее важную часть моих рассуждений! — послышалось с другого конца стола, и это вернуло пана Броучека из блаженного земного сна к тусклой лунной действительности.
— Да, видимо… — заплетающимся языком произнес пан Броучек, протирая глаза и хмуро глядя на лунные цветы перед собой. — Видимо, меня одурманил аромат этих прокля… этих прекрасных цветов.
— Возможно, — согласился с его предположением старец, — вероятно, непривычный запах оказался для тебя слишком сильным. Но ты быстро привыкнешь… Однако мне не хотелось бы, чтобы из-за цветов ты лишился самой драгоценной части обещанного духовного лакомства, поэтому я еще раз прочитаю тебе главу с самого начала.
— Нет, нет, пан Лунобор, большое спасибо! — испуганно запротестовал пан Броучек.
— О, да я с радостью прочитаю еще раз десять листов, меня нисколько это не затруднит, — стоял на своем самоотверженный хозяин.
— Ах, ни в коем случае, пан любомудр! Об этом я не смею вас и просить. Кроме того, мне как-то не по себе, как-то душно…
По счастью, пана Броучека выручил Лазурный, который вдруг метнулся к, дверям, опустился на колени и, простерев руки, воскликнул: — Твоих одежд музыку слух мой уловил. Ты рядом, ангел!.. Слышу шорох дивных крыл. Они летят из рая, сладостью поя… Пускай у ног богини гаснет жизнь моя!..
VI
Эфемерная глава: паутина, фиалки, мотыльковые крылышсонеты, утренняя роса, отчаянье неразделенной любви, романтический побег через окно.
Настроенные по законам гармонии дверные петли издали несколько чарующих аккордов, и в комнату вдохнулось (у меня нет более подходящего выражения для невообразимо легкой поступи вошедшей) самое упоительное существо из всех, какие когда-либо в луче весенней. Луны посещали сон юного поэта. Источая благоухание фиалок и жасмина, к столу приближалось эфемерное подобие девы — нет, всего лишь сияние в девичьем образе, белокурое видение с нимбом волнистых прядей, которые покрывал лазурный венчик восхитительного полевого колокольчика; видение, окутанное прозрачной и бесплотной, как дыхание, кисеей; видение с парой трепещущих мотыльковых крыльев за спиною, с паутинными ножками, обутыми в золотистые «Венерины башмачки»; видение, столь нежное, что у вас невольно перехватывало дыхание, — того и гляди, сдунешь это воздушное создание, невесомое, как перышко, как…
Видите! Мое перо, силясь изобразить эту паутинную субтильность, сбилось на описание столь эфемерное, что для телесного зрения не оставило на бумаге ни единого следа!
Эфирия, держа в паутинных ручках два больших цветка — две белоснежные чаши на тонких стеблях, обратилась к гостям голосом, подобным эху ангельского песнопения:
— Вот песнь — цветок мечтательный шалфея,
На нем роса, как будто слезы барда,
И пахнет он, как смесь алоэ с нардом,
Пред низким критиканством не робея.
Вот песнь!.. Крылами песни вас овею,
Она горит, как взоры пылких сардов,
Она нежна, как шкура леопарда,
Чиста, как ваза, — мраморная фея.
Не то Эол слагает эту песню,
Не то Весна взяла сирингу в длани
И осыпает лепестки подбела.
Как будто херувим качнул крылами
Хрустальный колоколец поднебесья,
И небо сладко «дзинь-ля-ля» запело.
Лазурный, молитвенно сложа руки, коленопреклоненно застыл перед нею в немом восторге, а когда она протянула ему один из двух белоснежных цветков, он с жаром припал к лепесткам губами.
Со вторым цветком Эфирия порхнула к пану Броучеку. Наш герой признается, что не мог сдержать восхищения, глядя на это сказочное существо, но что с большей радостью отнесся бы к появлению вполне реальной кухарки с дымящейся тарелкой супа. Однако, памятуя наставления Лазурного, он опустился перед Эфирией на одно колено и пробурчал нечто вроде «Мое почтение, барышня!» Эфирия вознесла над ним свои паутинные руки и запела:
— Ты схож с Медузой…
Взгляд твой ужасает
И обжигает сердце лютой стужей,
Но чу! В моей груди хорал разбужен,
А на губах лобзанья музы тают…
В твои черты свой взор я погружаю,
Как в море ужаса, ища жемчужин,
Так мужественный житель гор, завьюжен,
Из-подо льда сапфиры извлекает.
Вот так манят ребенка пики пиний,
Так душу не страшит огонь золою,
Велит он: «Сгинь!» — душа крылато сгинет…
И станет жертвой львиного разбоя Верблюд…
Не все ж в объятия пустыни
Несется зебра по костям стрелою.
Пан Броучек благоговейно выслушал изысканные стихи, а затем взял белый цветок, который Эфирия протянула ему с обворожительной улыбкой. Растерянно держал он цветок за тонкий стебель, — не зная, куда его девать. «Кажется, эти луняне помешаны на цветах!» — подумал он про себя.