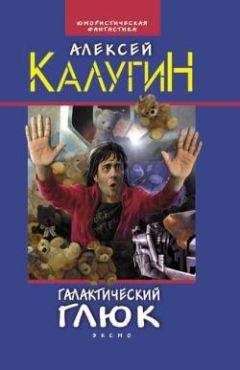Максим Далин - Владыка Океана
Я посадил тритона прямо на стол, а стул отшвырнул ногой. Митч отшатнулся, когда я к нему шел, а отец Клейн и дуэнья заголосили: "Ваша светлость, ваша светлость, успокойтесь ради Бога!" Да черта с два!
Я бы поднял Митча за лацканы, будь мы оба на Мейне. Но в родовом замке меня остановило что-то — может, присутствие Летиции или тени предков, не знаю. Я только остановился напротив, скрестил на груди руки и уставился на него — он вскочил сам. Он был бледен до зеленоватости, господа, и это вовсе не преувеличение.
— Ну вот что, Митч, — говорю. — Я уважаю ваши заслуги перед моим покойным дядей, но если вы еще когда-нибудь позволите себе не только говорить с женщиной в таком тоне, но и смотреть на нее с такой миной, я, честью клянусь, выставлю вас отсюда за одну секунду.
Его мелко затрясло.
— Простите, — бормочет, — ваша светлость… я думал…
— Я не против размышлений, — говорю. — Но если вы думаете грязные вещи, извольте оставлять свои мысли при себе.
Он взял себя в руки и сказал, не поднимая глаз:
— Я вас понял, ваша светлость. Я прошу прощения, ваша светлость.
— У дамы, — говорю.
Он тупо взглянул на меня.
— Просите прощения у дамы, — говорю. — У госпожи Летиции.
Какая-то фибра, господа, какая-то непонятная жилка дрогнула у него в лице, но он поклонился Летиции и сказал:
— Я прошу прощения, сударыня. Я был недопустимо груб.
И милая девочка, этот океанский ангел, весь золотой и голубой в луче закатного солнца, посмотрела на меня нежно, господа — по-настоящему нежно, без обычной снисходительной усмешечки — и сказала:
— А ты, кажется, и вправду князь, малек… я это запомню.
У меня сердце сгорало от ее тона, друзья мои… но наш разговор тем вечером так и не наладился. Мне показалось, что Летиция все же не желает говорить при Митче. Меня страшно раздосадовало, что она ушла к себе, вместо того, чтобы прогуляться к берегу и взглянуть на дивный закат. Я огорчился и ушел коротать время в обществе тритона — разговаривать с Митчем абсолютно не хотелось.
Я не знал, какая муха укусила его за ужином и из-за чего разгорелся сыр-бор — но видеть его я не мог.
Той ночью я ложился спать в скверном расположении духа.
Я, знаете ли, отвратительно засыпаю на новом месте, даже если это мое родовое гнездо. Я лежал на огромном холодном ложе, пахнущем лавандой; шиянская Старшая луна, громадная, зеленая, неподвижно стояла за окном и светила мне в лицо — она нарастала, близилось полнолуние. Я слушал, как за окном шумит океан — мне было тревожно-блаженно от этого мерного рокота.
Я долго пролежал, глядя на луну, а потом заснул незаметно для себя. И впервые в жизни, мои дорогие, впервые мне приснился дикий кошмар, ярче любой реальности.
Мне снилось, что я очутился в подземном святилище — лежу на этом алтаре или жертвеннике, будто впечатанный в ледяной камень всем телом, совершенно голый, не в силах пошевелиться. Я отлично помню это ощущение полной беззащитности — и тянущего ужаса. А рядом с алтарем стоял этот…
Смейтесь, господа, если угодно — это был Эдгар, Владыка Океана. Отвратительная рожа с портрета в галерее. Только на портрете он выглядел сорокапятилетним, еще довольно крепким мужчиной, а в моем сне это был дряхлый старик, трясущийся, слюнявый, высохший и сморщенный, как мумия, пролежавшая в могиле целую вечность. Но — тот самый человек, без сомнения: его губы ссохлись и беззубый рот провалился, но слащавую и жестокую улыбочку было невозможно не узнать. И он смотрел на меня плотоядно или похотливо, потирая скрюченные руки, пускал слюни и бормотал:
— Чудесно, ах, чудесно! Породистый жеребец, ах, какое тело, подумать только… молодцы, ах, какие молодцы! Ух, ты, красавчик, доброе дитя… — и потянулся ко мне, чтобы дотронуться до моего бока…
Пардон, господа, я понимаю, что это звучит глупо. Но я почувствовал такой дикий ужас… я подумал, что умру, если он ко мне прикоснется, а в мою правую руку, от перстня и дальше, до самого локтя, будто загнали раскаленную спицу. Я проснулся весь в поту и увидел на подушке, освещенной луной, грустного тритона, который смотрел на меня, склонив набок голову.
У меня даже не нашлось сил его согнать. Моя рука горела огнем, и боль прошла нескоро. Я спросонок никак не мог взять в толк, отчего я настолько испугался такого пустяка, и что у меня с рукой. Перстень казался страшно тяжелым, но и это ощущение постепенно прошло.
Прошло с полчаса, пока я слегка пришел в себя. Я сидел в постели и бранил последними словами предка Эдгара. Я был уверен, что гадкий сон — последствие целого вороха новых впечатлений и местных странностей, но от этой уверенности мне, признаться, не становилось легче.
Мне уже хуже смерти надоел этот перстень, якобы благословленный святым Эрлихом. Я не святой, государи мои. Все эти рр-реликвии — не по мне, довольно. Может, святой Эрлих, думал я, решил наставить меня на некий правильный путь, но я таких знамений не понимаю и не хочу.
Мне больно, наконец. Я не желаю, чтобы меня воспитывали пинками, как паршивую собачонку. И не возьму в толк, как человек может грешить во сне, когда им руководит что угодно, только не разум.
Я дергал этот перстень, как мог. О да, с тем же успехом, господа, я мог бы пытаться избавиться от пальца! Когда эта сверлящая боль, пришедшая во сне, наконец, отпустила, чертов благословленный перстень сделался просто частью моей руки. Как ноготь. Все время в одном положении, не снимается и не двигается.
В конце концов, я утомился этой бесплодной возней и заснул. Только сон оказался еще более реальным, чем предыдущий. Правда, гораздо приятнее.
Мне приснилось, что я поднимаюсь на стену, выходящую на океан. Стою и смотрю в воду, зеленую, мерцающую от луны — и вдруг мне начинает страшно хотеться прыгнуть туда.
Безумная мысль. Стена очень высока; я отчетливо видел, как океан плещет в каменные контрфорсы метрах в двадцати внизу. Я в принципе не мог себе представить прыжок с этой высоты — несколько секунд я не мог даже дышать от холодного спазма в груди. Но мне вдруг показалось, что оттуда, из этих лунных волн меня зовет Летиция.
Вот тут, господа, я и осознал, что это только сон. И с бредовой свободой сна и таким же бредовым бесстыдством я стал раздеваться, глядя на эту далекую воду. Черр-рт, государи мои, как глупо, но у меня вылетело из головы, что вообще-то наяву я не умею плавать. Самый большой водоем, в котором я до этого купался, был, видите ли, обычным бассейном длиной с две стандартных ванны и глубиной мне по пояс.
Но во сне люди умеют не только плавать, но даже летать.
Я разделся догола и бросил одежду на зубцы стены. А потом некоторое время стоял между зубцами так, что океан был у меня прямо под ногами — и наслаждался чудовищно странным состоянием спокойной готовности к самоубийству. Я же знал, что не утону во сне — это уж, пардон, никак не возможно — но сон был так ярок, что я чувствовал кожей холодный ночной ветер.
Решиться на прыжок оказалось непросто, но я подумал, что глупо трусить во сне. Я зажмурился и шагнул вперед.
Сначала была невесомость полета. Потом я ушиб ноги об воду так сильно, будто прыгнул с крыши на асфальт. Во сне так обычно не бывает. А потом меня окружила сплошная вода, плотный зыбкий холод — и я понял, что тону.
Я открыл глаза, увидел вокруг зеленоватую тьму и ощутил, что опускаюсь на дно, как камень. Но я не чувствовал удушья. В какой-то миг я сообразил — я вдыхаю воду! Я вдыхаю воду! Наверное, так делают рыбы!
Это открытие, господа, как-то освободило меня, я смог двигаться. Я вытянул вперед руки и оттолкнулся от воды — на диво легко вышло, и я увидал, что мои руки… как это говорится…
Я перестал быть собой, государи мои — вот было чудно, право! Я стал каким-то гибким серебряным существом, покрытым чешуей; мои пальцы удлинились, между ними появились перепонки. Ноги, мне показалось, соединились вместе, и с ними сталось что-то, не менее странное: они так легко и упруго гнулись, будто пластиковые или резиновые, на них, наверное, тоже появились перепонки, или, может быть, хвост, я не знаю.
В тот миг я не мог понять, во что превратился. Мне пришел на ум морской змей или некая уморительная сирена мужского пола, если такие бывают в природе. Но, как бы то ни было, ощущения оказались упоительными. Я скользил, парил в воде, освещенной луной, как в небесах. О, это было дьявольски легко и необыкновенно приятно — я чувствовал, хоть и не понимал, чем, вкус соли и йода, а океан нес и качал меня, как и тех рыб, которые скользили вокруг какими-то серебряными тенями…
И вот тут, господа, я увидел Летицию.
В первом сне я не усомнился, что вижу предка Эдгара, хотя он был не похож на портрет. А во втором у меня не возникло ни малейших сомнений, что чудесное создание, которое выскользнуло из зеленоватой лунной мглы, серебряное, необыкновенно изящное, с пышнейшими волосами, колышущимися вокруг точеной головки, будто плавники у вуалехвоста — это она, Летиция.