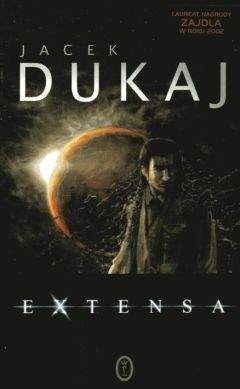Яцек Дукай - Иные песни
Так и застала его молоденькая ангелица. Закутанная в белый мех какого-то оронейского животного — а может и птицы, поскольку он казался сплетенным из миллионов голубиных перьев — она присела рядом (при каждом ее движении позванивали невидимые доспехи) и угостила пана Бербелека никотианой. Табак был в Оронее чрезвычайно дорог, он никак не желал расти в короне Короля Бурь, а свиньи из Хердона прилетали нечасто.
Пан Бербелек поблагодарил. Греческий язык ей был известен. Они закурили.
Ангелица размахивала ногами в тяжелых сапогах. Иерониму вспомнились Алитея и Клавдия Верона на борту «Встающего».
— У меня есть дочка твоего возраста.
Ангелица склонила голову, светлые волосы закрутились вокруг нее по кривой спирали.
— Зачем ты туда летишь? Ведь ты же не должен, ты сильнее их.
Действительно ли на Луну отправлялись, в основном, люди сломавшиеся, с разбитой Формой?
— Я должен командовать ее армией.
Ангелица подняла бровь.
— Она хочет вернуться?
Пан Бербелек пожал плечами.
— Как тебя зовут?
— Лоилеи.
Она протянула ему руку, перья зашелестели на ветру. Мужчина крепко сжал запястье.
— Иероним Бербелек.
На следующее утро она вновь очутилась у ворот. На сей раз — и он вдел это — она его разыскивала.
— Эстлос.
Иероним зыркнул на нее с подозрением. Та одарила его шельмовской усмешкой.
— Дедушка интересуется политикой, — сказала она, усевшись рядом, на привычном месте. — Сказал, чтобы я держалась от тебя подальше.
— Не слушаешься дедушку…
— Вистульский гром и молния, ха! Ну, и в скольких битвах ты победил?
— Во всех. Кроме последней.
— Он сказал, что ты можешь приказать мне зарезать себя, и я что я бы зарезалась.
Иероним решил позабавиться за ее счет; он повернулся к ангелице, взял за руку, склонился поближе.
— Лоилей, — шепнул он.
Та раскрыла свои светло-синие глаза еще сильнее.
— Да…?
Пан Бербелек ждал, не отводя от нее взгляда. Он не мигал, так что и она не могла мигнуть. Он видел, как ускоряется ее дыхание. Рука в его захвате начала дрожать, перышки меховой накидки тревожно шелестели. Ангелица раскрыла губы, но не была в состоянии издать из себя хотя бы звук. Он стиснул сильнее. Ангелица застонала.
— Что ты… хочешь… чтобы я…
Иероним засмеялся и отпустил ее.
Он снова обернулся к облачной пропасти. Вынул коробочку с никотианами, спички. Хотел угостить и ее, но, когда вытянул руку, ангелица схватилась с места и убежала, спрыгнув со стены прыжком диной в четверть стадиона — и быстро исчезла с глаз, белая на белом фоне.
Через два дня анонимный посланник принес в Лунный Двор для пана Бербелека первое любовное письмо от Лоилеи Икуцца. Там же был адрес, по которому можно было послать ответ. Иероним ничего не написал. На следующий день пришло следующее письмо. Никаких истерик, она писала спокойно, что мечтает только лишь о нем, и что будет ждать его возвращения во главе армии Иллеи Жестокой. В ответ он написал, чтобы она его не ждала. Лоилеи, в свою очередь, написала, что если не встретится с ним лицом к лицу, то Иероним не вынудит, чтобы она о нем забыла. Теперь уже пан Бербелек вообще не покидал пределов Лунного Двора, чтобы избежать такой вот «случайной» встречи. От последующей переписки он удержался. Письма от ангелицы приходили ежедневно и становились все длиннее. Она расписывала ему свою жизнь, рассказывала про амбиции и надежды, описывала историю рода и всей Оронеи. Ее греческий язык был неуклюжим и достаточно убогим, тем не менее, он передавал всю ту наивную откровенность, с которой Лоилеи открывала свои тайны. Пану Бербелеку следовало сжечь все эти письма; вместо этого он заботливо прятал их за обложкой собственного дневника. Он вспомнил, сколько подобных любовных признаний получал после всякой победы. Так чему удивляться? Такой была Форма стратегоса: он завоевывал. Ведь он ничего не запланировал, не желал, не имел намерений. Просто, все это лежало в его природе.
В час страшнейших кошмаров, где-то между полуночью и наступлением рассвета, раздался протяжный звук гонга, вонзающийся металлическими вибрациями в стены, обшивку, полы, ковры и мебель Двора, под одеяла и под сны его гостей. Проснулись все немедленно. Никому не нужно было их подгонять и объяснять, что означает этот звук. Все вещи давно уже были собраны. Путешественники спускались через промерзший холл и с крытой веранды выходили на луг и на дорогу к Ступеням, что были засыпаны снегом, искрящимся всеми цветами огней Двора. Доулосы и слуги высыпали с лампами и факелами в руках. Путешественники шли молча, склонив голову против ветра, в кружащих хлопьях гидора — над Оронеей как раз бушевала очередная метель. Пан Бербелек, хельтийки, цыгане, Донт, Катрина, шпионы и изгнанники, богоубийцы и славящие богов всуе — две дюжины закутанных в плащи и меха фигур. Снег перед паном Бербелеком был чистым и гладким, любой шаг ломал его замороженную поверхность. Но — если не считать этого морозного хруста — тишина. Слова заменяли облака пара, на каждом шагу вырывающиеся изо рта.
Даже и в глубоком снегу, на то, чтобы пройти стадион не требовалось более десятка минут. Вокруг Ступеней в Небо были развешаны десятки лампионов. Но самое сильное сияние исходило с вершины Ступеней, где светло-голубым огнем пылал громадный корпус лунной ладьи. Называлась она «Уркайя», что на языке, о названии которого пан Бербелек не спросил, означало «Подзвездная». Ее построили на небесных верфях для плавания через сферы Огня и этхера, посему именно эти стихии и составляли основу ее конструкции. Пыр означал свечение и жар, этхер означал вечное движение по кругу. «Уркая» постоянно пылала звездным огнем и вращалась сама вокруг себя.
Внутрь ладьи путешественники входили по растянутому над черной пропастью веревочному мостику; внутренности ладьи были темнее, чем внешние оболочки, наконец-то можно было перестать щурить глаза. Последний взгляд через плечо, когда ветер еще мечет в лицо замороженный гидор; освещенная тропка и темная Оронея за снеговым занавесом. Последний взгляд на «Уркайю», вращающуюся вокруг горизонтальной оси, вдоль которой и входят в пасть этого полупрозрачного скорпиона: гигантские клешни начинают разворачиваться в этхерные паруса, от пыровых бортов бьют клубы пара, багровое сияние пробегает вокруг змеиных колец «Подзвездной», спиральный хвост разгоняется в тысячах ураноизовых вечнодвигателях — расцветающая роза перпетуум мобиле. Горящий человек высовывается из застывшей на поворотной оси башки скорпиона и, окруженный облаком снежного пара, дует в черный рог: уууууууррммммм! Пора покидать Землю.
Пан Бербелек повернулся спиной к ночи и вступил в сияние.
* * *3 януариса 1194. Начинаю дневник заново. Конечно же, я не владею пером с искусством Элкинга, но не простил бы себе, если бы не записал. Величайший глупец тот, кто доверяет собственной памяти.
Мы как раз покинули сферу аэра, ладья вступила в домены пыра и этхера. «Уркайя» обладает двумя брюхами: внутреннее, сложенное из ге, в котором мы проживаем, и внешнее, сквозь которое мы видим удаляющуюся поверхность Земли, уже освещенную, поскольку Солнце над нашими головами — точно так же, как и Луну, именно ее нам придется догонять. Три часа назад мы начали разворачивать основные крылья, и до сих пор их разворачиваем.
Делается все жарче. Все сбрасывают одежду. Луняне ходят обнаженными, их кожа на ощупь кажется болезненно распаленной — словно кожа Шулимы. Они пользуются странным греческим диалектом; понятным, но раздражающим ухо. Живут они в кабинах в этхерной голове «Уркайи» Сам я видел всего лишь нескольких, но экипаж состоит из не менее трех дюжин. Ладья громадная. Я прошелся по самому нижнему трюму ее внутреннего брюха, считая шаги: двести четырнадцать.
После ужина — когда Солнце перегнало Луну, выглядывая из-за нее огненной дугой — пришла черноволосая лунянка в этхерной бижутерии и сообщила, что капитан желает видеть меня; он примет меня, когда пробьет полночь. Мне качалось, что полночь наступила незадолго перед нашим отлетом с Оронеи, но у них здесь другие полуночи и другие полудни, другие цыгане проектировали часы для Луны.
Софистос Донт шепчет мне, чтобы я случаем не рассердил капитана (большинство пассажиров перешептывается, хотя никто их не подслушивает); что в жилах у них течет Огонь, и немного нужно, чтобы распалить ярость лунян; чтобы я покорно поздоровался и ничего не говорил. Идиот. Я надел кируффу из белого шелка, стилет с мантикоровым лезвием прячется в рукаве бесследно. И думаю: ярость. Ярость. Ярость!
— Оронейцы говорят, что тебя прислала Лакатойя.
— Кто?
— Вечерняя Госпожа. Дочь. Шулима.
Омиксос Жарник, гегемон «Уркайи», принимал пана Бербелека полуночным завтраком в своей личной кабине на носу, то есть, в голове ладьи. Все четыре низкие стихии всегда стремятся к центру вселенной, к центру Земли, и хотя пассажиры и члены экипажа перемещались по ладье, Землю — черную или зеленую — они неизменно имели под ногами, под прозрачной скорлупой из пемптон стоикхеион. Зато этхерные носовые кабины, вся голова скорпиона оставалась все время неподвижной, что, казалось, противоречило самой натуре ураноизы. Омиксос объяснил этот секрет звездной меканики пану Бербелеку без каких-либо просьб с противоположной стороны, видя любопытствующий взгляд гостя и ту осторожность, с которой он ступал по прозрачному полу. Все искусство этхерной алкимии именно в этом и заключается: на изменении вечного кругового движения архе ураноизы. Движения этого невозможно остановить, зато можно изменять его орбиту и направление — и как раз именно таким тонким меканизмом, складывающим миллионы круговых движений этхерных тел «Подзвездная» и является. А вот движение головы ладьи является «скрытым движением» Провего, невидимым изнутри, заметным лишь во внешнем сравнении; оно возможно, благодаря размещению головы на недвижной оси «Уркайи». Пан Бербелек пытался все это представить в соответствии со словами гегемона, но тут же почувствовал, как только что проглоченная пища подходит к гортани.