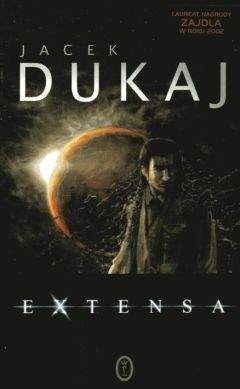Яцек Дукай - Иные песни
Пока всяческие какоморфные хищники их обходили. Зайдар шел спереди, Зуэя сзади. Лишь бы только ничего не выскочило прямо из джунглей, не выпрыгнуло сбоку, не схватило за ногу, не напало из-под земли… Нет, только не думать об этом! Жертву можно узнать точно так же, как и раба — вроде бы ничем и не отличаются, но достаточно глянуть, и тебе уже известно: вот этот проиграет, а вот этот поддастся.
Шулима шла сразу же за Иеронимом, равняясь с ним, когда джунгли позволяли это.
— Все, как ты хотела: вместе в самую глубь Сколиодои.
Та легко усмехнулась.
— А ты нет?
— Ты же хотела, чтобы я хотел.
— Бедняжка. Что же такого я с тобой сделала. А ведь сколько развлечений ожидало тебя в Воденбурге и Валь де Плуа.
Иероним расхохотался так громко, что даже нимрод на него оглянулся. Но пан Бербелек чувствовал, как вместе со смехом извергает из себя в эти мрачные джунгли какую-то флегму души, злую желчь, как он выплевывает старые струпья и гнилую кровь. Не останавливаясь ни на мгновение, он притянул к себе Шулиму и поцеловал. Неужто она и сейчас упиралась? Дело в том, что впоследствии он даже не мог и вспомнить, хотя, ему было плевать — Форма принадлежала ему. Оторвавшись от губ женщины, он инстинктивно смахнул у нее с груди песчаного комара, который уже пробивал бронзовую кожу, добираясь до крови.
Все были в шальварах с узкими штанинами и в высоких сапогах. Уже через пару минут пот начинал стекать по спине и торсу. Пот привлекал насекомых Сколиодои будто мед — пчел; а, может, это и были какие-нибудь какоморфированные пчелы. Люди убивали их, лишь только те садились на кожу. Иногда насекомые умирали от одного удара, но иногда приходилось давить с большими усилиями: слизни с крыльями бабочек, стрекозы с железными туловищами, пауки с ледяными костями. Шулима сняла с шеи Иеронима черную гусеницу, сегменты тела которой были заполнены аэром — она плавала в воздухе, то сворачиваясь в бублик, то разворачиваясь. Может быть и следовало накрыться какой-нибудь курткой, толстой рубахой, льняным химатом — но было слишком уж жарко, повсюду царили страшная сырость и духота.
Чем дальше к югу, тем стихии смешивались сильнее. Вскоре уже все кашляли, выплевывая собирающийся во рту песок: стеклянистые дробинки поднимались в воздухе, поблескивая в полутьме — калечащий кожу твердый туман. Воздух пах, да и на вкус напоминал старую горелую падь. Видимость ухудшалась. Вода стекала по стволам деформированных деревьев, била вверх из скрытых источников спиральными фонтанами, захватывая с собой камни, ветки и мелких животных; кроме того, она катилась по тропкам каплями величиной с собаку: сплющенные шары мутной жидкости, шастающие по мрачной чащобе то тут, то там, отражающиеся от помех, заползающие на склоны. Пан Бербелек пробил одну из них своей палкой. Та зашипела и разлилась грязной лужей. Да, это была вода, гидор, но не в Форме Воды. Что же касается Огня, то вскоре они пересекли какую-то очередную тайную границу Сколиодои, и с тех пор у большинства замеченных ими животных шерсть состояла из миллиона малюсеньких язычков пламени, шкура была из огня, панцири — из лавы, все они светились в темноте демоническим блеском. Таких какоморфов они замечали без труда, особенно, когда те достойно проплывали у них над головами сквозь ту взвесь аэра, гидора и ге, что исполняла тут роль воздуха. Иногда какое-то из созданий срывалось в резкий полет, скачок, бег — цап, и хватало свою жертву. Одна из этих несчастных взорвалась словно осадная мина, на охотников просыпался трупный дождь, струя же воздуха между какоморфными деревьями запылала зеленью.
Очень скоро видимость снизилась до двух десятков пусов, через воздух нужно было прогрызаться, ноги грязли в болотистой грязи, джунгли ухали, трещали, гремели, клокотали, рычали, стонали, шипели, всхлипывали, хохотали, шептали непонятные слова. Мимо них достойно проползла громадная змея, скатанная из воды и огня. Все смешивалось со всем, границы затирались, мир превратился в одно какоморфное сборище.
— Привал! — крикнул пан Бербелек.
Они уселись на стволе медной рыьы. Под кроной газовой пальмы висел пламенный гиппопотам, из его пасти скапывали прозрачные камни — пришлось подвинуться, потому что те, разбившись, взрывались прожигающим кожу снегом.
Гауэр Шебрек начал ругаться на чем свет стоит, выяснив, что не может отложить карандаш, тот врос ему в кости, теперь у софиста на правой руке было уже семь пальцев.
— Кто еще?
Шулима прошла вдоль ствола. У Гауэра вдобавок что-то было не в порядке с ушами, оттуда лилась липкая жидкость. У Зуэи ребра проросли сквозь кожу — симметричные гребни из черного стекла. Зайдар не мог снять свой заплечный мешок — ремни спутались с мышцами на спине. В бороде у него выросли алые цветы. Заметив это, он хотел было ругнуться, но не смог; оказалось, что потерял голос. Нимрод захрипел — из уст посыпались белые перья, настоящая метель тяжелого пуха. Облако тут же поднялось в воздух, на десять, двадцать, тридцать пусов; там, в высоте, дыхание Зайдара сгорело на брюхе гиппопотама. Чудище зевнуло — хррррзззррр! — и фонтаны снега! Амитасе теперь склонилась над Бербелеком, повернула, попросила поднять руки. Он ожидал самого худшего, но эстле не удалось обнаружить никакой аберрации. Она молча покачала головой. Под самый конец она сама сняла груз и одежду — пока что и она тоже держалась в Форме.
— Как ледако мы залишли? — обратился пан Бербелек к нимроду.
Ихмет показал на пальцах: пятнадцать.
— Пятнадцать стадиотов? Это флохо.
— Ну, не знаю, — Шулима подняла голову. — Мне так кажется, уже симнеет.
— Так мы лишли целый пень? Незвоможно.
Решили вынуть еду из мешков. Сушеные фрукты и сухари как-то еще сохранились, но остальное в большей или меньшей степени изменило внешний вид и консистенцию, отчасти даже принимая признаки жизни: вяленое мясо отскакивало, когда его касались ножом, лепешки выпустили колючие ростки. Но вода в баклажках, по крайней мере, оставалась водой.
— Придется тут ночевать, люйди, — вздохнул пан Бербелек. — А завтра смотпотрим.
На страже стояли поочередно, первым был Иероним. От этого сгущенного, загрязненного воздуха глаза слезились. Он не хотел вытирать их грязными руками, поэтому видимый мир окончательно утратил форму, перед паном Бербелеком уже только плавали аморфные темные пятна, становящиеся темнее с каждой минутой, пока наконец ночь не залила Сколиодои, и теперь свет исходил только от огненных растений и животных.
Разбудив Шулиму на ее вахту, Иероним сказал:
— Те огни, которые видел воннопущееник Когтя — они могут ничего даже значичать, сама видишь.
Амитасе встала, стряхнула с себя землю, воду, огонь, живое и мертвое, все то, что заползло на нее во время сна.
— Я верю, что фущещтвует. Если и не город, то что-то иное, щще плиже.
— Но почему?
Эстле уселась на рыбе.
— Покажи харту.
Тут она выдернула из камня черную сосульку и подожгла от пробегавшего мимо полоза. Придвинув грязный огонь к пергамону, она указала обозначенную красным область Сколиодои, продвинула пальцем вдоль Черепашьей Реки.
— Как ледако мы прошли? Мы только-только перешшли границу. И видишь, с каждыйм здадионом деформация все сильнее, керос выпучивается постепенно, чинаная от реки, а чотнее, от этих одиночных какоморфов перед ней. Так что глянь, посчитай. Раз все так возрастает — а мы находимся всего туты — а здесь вроде бы город, ненамного дальше — так что же ханодица там — в сердце, в центре, в ядре Сколиодои?
— Столица Кривых Стран? Котыбель безумного крафтистоса?
— Ты прафда тумаечь, што токто мог бы там выжить? Я даже не спрашиваю пришины; я спрашиваю, каков максимум этого Искривления? Как это фыхлядит? Какой же это мир?
— Это, самое малое, штытыриста стадиотов от Чирепашьей.
— Так.
Засыпая, пан Бербелек пытался вспомнить, в какой точно момент Шулиа впервые вспомнила про Сколиодои и джурдже, каковы были ее слова, как звучала суть приглашения. Ей нужен стратегос Иероним Бербелек, так она утверждает, даже если бы пришлось воскресить его из мертвых — но вот для чего он ей нужен? Чтобы завоевать Сколиодои?
Он заснул. Ему снилось то же, что и всегда: пленение в бесконечности, боль разделения, стремление к чему-то, что находилось под рукой, рядом — хотя, естественно, рук у него не было — затерянность среди невысказанного. Но на сей раз, по крайней мере, он запомнил, чего не мог высказать, это осталось с ним наяву.
Утром они не смогли добудиться Шебрека. Вавилонянин стоял предпоследнюю вахту; когда он менял Зуэю, то еще держался Формы; несчастье должно было случиться перед самым рассветом. Он запустил корни, врос в землю. Выкопать не удавалось, пришлось рубить. Вот тогда он пришел в себя — с воплями. Он что-то бормотал, совершенно бессмысленное, никто ничего не мог понять. Из ушей текли потоки клейких слез. Идти он мог только задом, кто-то должен был его вести и следить, чтобы Шебрек не упал или не подпрыгнул слишком высоко — сейчас он был очень легкий, при любом толчке поднимался в воздух. Силой заставили, чтобы он съел двойную порцию, фрукты должны были сделать его потяжелее. Но он изрыгнул их потоком кипящей лавы, которая обожгла ему живот и грудь. Кожа сначала покраснела, потом начал светиться. Угольным пальцем он царапал по ожогу — черные буквы в огне, и те же непонятные звуки.