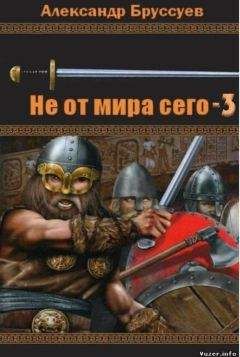Александр Бруссуев - Не от мира сего 2
На самом деле побег из монастыря оказался стихийным и неподготовленным. Увидел ворону, наблюдающую за суетящимися в драке людьми, заметил задранную к небу задницу поверженного громилы, разбежался и прыгнул, даже не думая, до чего, собственно говоря, он хочет долететь. Мысль, что называется, не успевала за действием. Уже потом одобрил свой прыжок: в самом-то деле, не на воздухе же сидела пернатая тварь — птичкам это не свойственно, им нужны специальные приспособления, чтоб можно было без ущерба для своего имиджа сложить крылья.
Вообще в тот день, впрочем, как и в предшествующие ему, Алеша плохо соображал. Он как-то подзабыл, кто он и где, зачем и почему. Бывает, конечно, особенно если день за днем приходят какие-то люди, не считаясь со временем суток, и стучат по голове и иным жизненно важным органам. Башка в такое время занята несколько иным, нежели анализ мироощущения и самосозерцание восприятия.
Алеше повезло, что на улице стояла как раз не зима, а какое-то другое время года. Во всяком случае, было уже тепло, или — еще тепло. Он спустился на землю во внутренний хозяйственный двор, неспешно пересек его по накатанной телегами дороге, маханул между прочим чью-то ризу, беспечно сушившуюся на веревке, и к моменту начала всеобщей паники заметил входные ворота.
Воля встретила его легким, даже ласковым ветерком, который щекотно перебирал давно немытые спутанные волосы-космы. На монастырь Попович не огладывался, по дороге прочь не пошел, а направился к кустам, ограничивающим чье-то поле. Так, сквозь мятущиеся сучья он и добрался до оврага, где лежал обглоданный костяк лошади, бегали какие-то жирные мыши, и норовили попасться под ноги птичьи, скорее всего — чаячьи, гнезда. По самому дну бежал ручей, темный и мрачный, пить из него не хотелось категорически.
Алеша шел по оврагу до тех пор, пока не стало смеркаться. Он поднял голову и обнаружил, что наверху растут деревья, своими сучьями преграждавшие солнечный свет. Выбравшись наверх, Попович осмотрелся и вздохнул: вокруг был лес. Хорошо это, или плохо — такие мысли отсутствовали напрочь, что делать дальше — тоже. Оставалось просто идти, куда глаза глядят. Он и пошел.
Глаза глядели недолго — наступила настоящая ночь, сделалось так темно, что двигаться дальше стало решительно невозможно. Где-то впереди сквозь стволы промелькнул свет от огня, Алеша уподобился мотыльку и пошел на него.
У костра сидели три человека, тянули из кружек горячий настой и рассказывали друг другу байки о чудищах лесных. Огонь плясал на поленьях, притягивал взгляд и покойно потрескивал искорками: "спи, спи, спи, твою мать".
Алеша неслышно вышел из леса, присел к огню, схватил краюху хлеба с луковицей и начал есть. На него сначала не шибко-то и обратили внимание, но потом каждый из странников подумал, что их у костра стало на одного больше. Это было подозрительно.
Попович съел весь хлеб и протянул руку за кружкой, ему не отказали, один из путников, наиболее сердобольный, даже налил из котелка горячего напитка. Алеша маленькими глоточками осушил свою емкость, поставил ее на землю и, не говоря ни слова, сделал шаг в темноту. Исчез он так же бесшумно, как и появился.
— Что это было? — спросил один из странников, вслушиваясь в беспросветную мглу, плещущуюся шорохами и всхлипами где-то поблизости, на расстоянии вытянутой руки.
— Чудище лесное, — ответил другой, самый молодой и косоглазый.
— Беглый каторжанин, — заметил третий, самый взрослый и от этого мудрый.
Действительно, внешний вид Алеши вполне мог этому соответствовать. Опухший от побоев, все руки в ссадинах, волосы торчком, в бороде запекшаяся кровь. Только в неволе могут такое сделать с человеком. Только слэйвины, потому как им это дело оказалось знакомо и даже сродственно, едва ли не генетически. Все они были "князьями" и все разбирались, как обустроить тюрьмы и разжиться бесплатными невольниками для каторг.
Никто из путников не пожалел краюшки хлеба для беглого, новые порядки родили поговорку: "От тюрьмы да от сумы не зарекаются". Долгое время в деревнях на околицах выставлялись крынки молока и ковриги хлеба "для беглых". Кто жалел несчастных, кто боялся. Пройдет долгое время, пока народ научится их ненавидеть. Только какой же это, в таком случае, народ?
Алеша почти не помнил поутру свой ночной визит к странникам. Он проспал до утра на поваленном временем стволе лесного гиганта, положив под голову так и не одетую чужую ризу. Лесные звери обходили его лежбище стороной, морща благородные носы от запаха. Разбудило его солнце, пробившееся сквозь листву прямо в глаза.
Попович долго осматривался по сторонам, никак не в состоянии осознать свою роль в лесной жизни. А роль его была незавидна: еду добывать и временами питаться подножным кормом он почти не умел, ночевать под открытым небом — тоже. Однако отсутствие побоев, свежий воздух, свобода перемещений и молодой организм заставили голову работать. Во-первых, он прислушался к навязчивому желанию умыться, но вокруг кроме росы в лосиных следах больше ничего не было. Тогда Алеша пошел на поиски, которые вскоре увенчались выразительной ламбушкой. В месте впадения в нее лесного ручья намыло немного песку, что было само по себе неплохо. Почему? Он нашел ответ на этот вопрос, когда руки сноровисто начали оттирать этим песком замоченную одежду. А потом сам залез в воду и долго скреб себя мочалкой из травы.
Несмотря на то, что вода была еще холодна, Попович ощутил облегчение, и дело было даже не в том, что в некоторых местах нательная рубаха и штаны предательски перетерлись, а в том, что он чертовски сильно захотел в баню. Это воспоминание побудило проснуться другие, и Алеша, наконец, понял, что он — человек, что это звучит гордо, и волки ему товарищи и даже братья.
Он примерил на себя захваченный из монастыря трофей и пришел к неутешительному выводу: у них в стенах водились великаны, или, хотя бы, один великан. Вот его-то одежкой он теперь и обладал. Ну что же, всяко лучше, если бы, положим, у них там прижились еще и карлики.
Алеша снова облачился в свое ветхое, но чистое бельишко и сказал вслух сам себе первое за много месяцев слово:
— Рус.
Потом помотал головой из стороны в сторону — произнесенное слово что-то ему не нравилось и вызывало приступы беспокойства и тоски.
— Если фибулей ударить по мондибуле, то слышит церебрум, как краниум звенит.
Это ему понравилось гораздо больше. Он подмигнул своему отражению в воде, посмотрел на руки, пошевелил пальцами для пущей важности, оглянулся, насколько это было возможно, себе за спину, словно проверяя: а не вырос ли хвост? И пошел, ориентируясь по солнцу, держа курс на север. Пока он еще не знал, почему, но посчитал, что так будет правильно.
К вечеру Алеша, отчаявшись переспорить громко возмущающийся желудок, набрел на деревню. К людям, широко распахнув в объятиях руки и счастливо улыбаясь, он не побежал. Залез в сарай на отшибе, где хранилось несколько тюков прошлогоднего сена, отменно поужинал заботливо оставленным молоком, сушеным мясом и хлебом и решил, что жизнь-то налаживается!
Прибежала местная собака небольшой и молчаливой масти. Они немного поговорили за здравие.
— Понимаешь, Жужа, — сказал Алеша.
Услышав звуки человеческого голоса, пес доверительно махнул хвостом и чихнул. Наверно, так он демонстрировал свою готовность к беседе.
— Я съел твою еду, — продолжал Попович. — Думаю, ты не в обиде — тебя хозяева покормят, только попроси. А у меня хозяев нету и больше никогда не будет. Так что и кормить меня некому.
Собака кивнула головой, соглашаясь, и опять помахал хвостом.
— Мне и угостить тебя нечем. Эх, Жужа, не поверишь — первый раз за много дней, месяцев, или лет — беседую с человеком. Ты меня не кусаешь, не ругаешься, не бормочешь какую-то чушь. Стало быть — ты человек. Ну, или друг человека, что в принципе одно и то же. Так?
Пес еще энергичнее завилял хвостом и даже робко лизнул протянутую руку.
— Вот и хорошо. Тогда — покойной ночи.
За упокой говорить не хотелось.
Он проснулся еще затемно удивительно отдохнувшим, пес спал, положив ему голову на грудь. Алеша погладил его по голове, почесал за ухом и решил: пора двигать дальше.
Собака проводила его до леса, чихнула на прощанье и живо убежала обратно. Наверно, пришло время завтрака. Попович же вчера на это дело себе ничего не оставил, хотя мог бы. Ну да ладно, вода из ручья — тоже неплохо.
Двигаясь исключительно по ориентирам, он не пересекал никаких дорог и рек. Стало быть, так уж ему показалось, он двигался параллельно им. Наклон земли, всей ее поверхности, был божественен, то есть — на север. Соответственно и реки должны были течь в том направлении. Ну, а дороги всегда было удобнее прокладывать вдоль русел, лишь в некоторых местах от неизбежности возводя переправы.