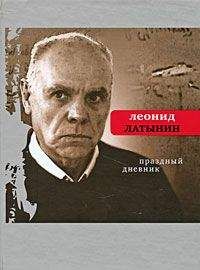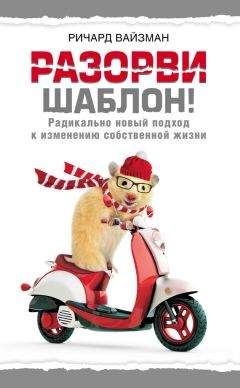Леонид Латынин - Чужая кровь. Бурный финал вялотекущей национальной войны
И руки, и ноги стали корнями дерева, которые переплелись с корнями вверху обгорелого, а здесь, в берлоге, живого, страдающего и нетронутого дерева, которые обнимали берлогу своими пальцами и уходили вниз еще глубже, в самое дно, сквозь землю. И этими корнями Дерево и Емеля обнимали Ждану: так опускали под обнимающие корни Велесовы жрецы их жертву, и так Волос перетек в корни подваженного дуба в далеком Суздале.
И дерево, отвечая людям на их жертвенную щедрость, росло вверх быстрее, и ветки его были иными, и почки тоже, и вперемешку с деревянным соком, внутри него, текла человеческая кровь, и листья были, как листья клена в осенний день, цвета пожара.
Все видели и не видели их. Они не видели никого и видели только друг друга.
И качнулась земля, обернулось небо океаном и стало сворачивать их единое тело-теченье…
Господи, за что ты так щедр и великодушен всего лишь к земной жизни? Спасибо за то, что раскачал землю, за то, что вывернул наизнанку небо так, чтобы все, что они, стало все, и все стало всего лишь они.
За то, что открыл все шесть сторон света – и юг, и север, и восток, и запад, и зенит, и глубь – раньше, чем люди узнали об этом, не переводя это в слово, и не давая имени сущему, и не обременяя землю смыслом и звуком, но оставив его раньше музыки и раньше жизни.
Так примерно думал Медведко спустя жизнь или примерно так.
Забыв и не освободившись от Жданы навсегда.
А в это время, в тот же час пополудни, кипела вода от падающих головней, они шипели, как кошка, отпугивающая собаку, как змеи, готовясь к нападению, как паровозы, начинающие движение, кипела вода от снующих вокруг лис и лисенят, где-то поодаль пыхтел и фыркал Дед, держа на плаву брата Медведки, раненного упавшим деревом. Волки, ощетинив мокрые серые загривки, скользили в кипящей воде, серые зайцы барахтались и булькали рядом, орали кабаны, погружаясь на дно, олени несли рога, как будто голые зимние кусты… была нормальная московская жара, которая бывает регулярно в жаркое лето, а Емеля естественно, обычно, буднично, без усилий перестал видеть этот мир, ибо глаза его повернулись внутрь глаз Жданы, и кожа стала видеть только то, к чему она прикасалась и что называлось Жданой, и тогда руки Жданы стали частью любви, и тогда ноги Жданы стали частью любви, и тогда живот Жданы, и глаза ее, и уши, и спина, и лопатки, и бедра, и колени, и ступни стали частью Любви тела Жданы и Емели, и вся любовь стала зряча, и каждая часть кожи увидела часть самой себя в зеркале другой кожи.
И еще был день, и еще одна ночь, и огонь, когда Емеля и Ждана замерли на мгновение в покое, полыхнул и, расправив крылья, опять поднялся над Москвой.
И в тот же час с неба упала, вскрикнув, вспыхнувшая на лету птица, билась и горела, гоня крылами воздух и раздувая свой маленький пушистый беспомощный пожар.
Волк скулил рядом, зализывая обгорелый бок, Дед торчал в десятке метров от нового берега, время от времени поднимая голову и клича Медведко.
Рыбы скользили в мутной жиже, задевая бедра и копыта стоящих в иле коров, быков, овец, собак, лосей, кабанов, зайцев, всей лесной твари, что спасалась от пожара здесь, как и в болоте всполья, где со временем станет Земляной вал и Триумфальные Серпуховские ворота, рядом с будущей слободой Кадашей, где и будет Кадашевский Хамовный двор полотняной мануфактуры, Монетным двором, и еще дальше, возле будущей лепоты Карпа Шубы – Красная церковь Георгия Неокесарийского.
Но Медведко не слышал криков птицы, стона волка, криков Деда.
Медведко опять любил Ждану.
Поскольку их невстреча и была причиной московского пожара 1000 года, ровно двадцатого июля – по одному поверью, в Велесов, по другому – в Перунов, а по третьему – в Ильин день.
Московский жертвенный день.
И в них было дело, все будет так, как по замышлению природы, и руки лягут так, и губы вспыхнут так, и руки, пальцы в пальцы, за спиной выше головы сойдутся так, и дыхание смешается так, и зубы коснутся зуб, и слезы потекут там, и тогда, и так – это как код в сейфе, все должно совпасть, все цифры, все буквы, все слова и все повороты, да еще отпечатки пальцев, и рисунок сетчатки глаз, и на тебе, откроется дверца, – так и со Жданой и Емелей…
И они искали и день, и ночь, и еще день, и еще ночь, засыпая и просыпаясь среди зверей и птиц, среди жары и стонов, среди всех смотрящих, видящих и не видящих их, среди всех, слышавших и не слышавших их, и на четвертый день сошлись все цифры, и все буквы, и все движения вправо, влево, влево, влево, вправо, вперед, назад, еще влево, словно выход с сегодняшней Полянки через двор за церковью Космы и Дамиана на соседнюю улицу, что-то щелкнуло в природе, застонало, зазвенело, музыка заворочалась, и проснулась, и пустила механизм облаков, и дождя, и грозы, и молния ударила кремень о кремень, ветви огненного дерева раскинула в небе, и упали с неба первые капли дождя, прямо в крики и стоны, прямо в голоса, звуки, огонь и жар. И Жля и Карна бросили свой ветер в будущий жальник, что ляжет на месте Вспольного болота, возле будущего Каменного моста, рядом с Кремлем и «Домом на набережной», и хлынул, чуть помедлив, пока еще испаряясь над землей, великий дождь июльский Велесов, оборвавший обряд принесения жертвы, и Дед, разодрав в улыбке морду, полез на берег, и лоси полезли, и кабаны, и олени, и зайцы, и лисы, и волки, и птицы поднялись в воздух, и запахло гарью, дымом бывшего пожара, и будущая трава уже просунула свои маленькие зеленые глазки над обгоревшей до черноты землей.
И Емеля чуть повернул Ждану на бок, положил ее голову к себе на плечо и уснул вместе с ней, через секунду после того, как семя его влилось в ее лоно, и жизнь Москвы была спасена и продолжена, и руки их не расплелись, и тела их не разделились, хотя не нужны уже были они природе, ибо выполнили свое назначение и были свободны от долга и страха, и спали они так долго, что наступила девятая ночь и потом тринадцатая, и в пятой стороне света, ровно возле Полярной звезды, запела ночная птица свою безумную песнь, считая их мертвыми.
И только тогда, когда закричали разом все быки, загнанные в стойло бичами пастухов, когда к их бокам прикоснулись оголенные провода разрушенных стойл, когда затрубил слон из-под упавшей на него скалы на тропе, ведущей от Шивы к Кришне, когда пересохла Северная Двина из-за горы Пермогорье, упавшей в ее русло, и забили своими хвостами огромные рыбы в пересохшем русле, когда рухнул в Светлояр Китеж, когда всех птиц земли собрали в огромную сеть и затянули на ней узел, – медленно-медленно, отдавшись холоду и легкости вод Москвы-реки, опустили свои руки, расплелись и разделились Емеля и Ждана, и вода понесла их в разные стороны из-за того, что Емеля был во власти нижнего течения, ибо был тяжелее Жданы, а она – во власти верхнего течения, ибо была легче Медведко, а течение нижнее и верхнее всегда противоположны по направлению.
Это не имело никакого значения, история опять была живой, разной, и новой, и единственной.
Главы молитв Жданы и Медведко после события, еще живших, вне человеков и звери, разумом и душой своею
Был вечер, и глаза Медведко были закрыты где-то возле Медведково, и глаза Жданы были закрыты где-то возле Коломенского, напротив шлюза и под куполами храма Вознесенья.
И плыла и молилась Ждана так:
– Я умирала по воле Твоей, Господи, дважды, когда умер муж мой, и стала жива, и теперь, когда я отдала любовь свою, сквозь Емелю, всему, что теперь живет, и, как пустая рыба, отдавшая икру, я плыву по волне живой реки именем Медведица, и нет сил у меня сделать движение, и только могу видеть, как все, что окружает меня, может жить жизнью, которой может жить жизнь…
Кожа моя нежна, руки мои опущены и сжаты, в глазах моих пусто, как бывает пусто в поле, когда собрано жито, как бывает пусто в небе, когда звезды задернуты облаками, когда болезнь похоронила мертвых, сожгла дома и ушла, не оставив после себя ни травы, ни куста, ни белого снега, а вместо белого платья – черная рваная шкура, лицо чумазо, как у волхва в молитве, – меня пугается зверь лесной, и человек бежит меня, слыша мою бессвязную речь, я мертвая, как конь, принесенный в жертву вместе со всадником, что привязали к деревьям крепкой кожей и сожгли, принеся в жертву Богу, я не дышу, как жрец, выметающий храм, я мертва, как поле, сожженное прежде, на котором росли деревья, потом золотело жито, и когда земля истощилась, ее оставило семя, я мертва, как старуха, лежащая на печи и бессвязно мычащая ту молитву, что в детстве твердила другая старуха: «Род мой, отец мой, и Мокошь-дева, мати моя, пошлите Велесовы ливни, Велесовы светы на землю мою, на поле мое, пусть станет лицо румяно, как хлебы в Купалин день, чтобы эти румяна были алее зари и багровей пожара, и Емеля не видел другого красного цвета, кроме моих румян, пусть станут руки мои крылаты, как лебеди в небе, и вверху облака обвивают своим лебединым ветром плечи и тело Емели.
И пусть слово мое осенит нас птичьим клекотом, граем, и свистом, и пеньем, чтобы наше дыханье становилось понятным небу, и каждый выдох утишил пламя пожара, чтоб ветер нес не тучи, не дождь, а повеленье московской земле не стонать, а рожать, и быть, и стать, и не исчезнуть отныне.