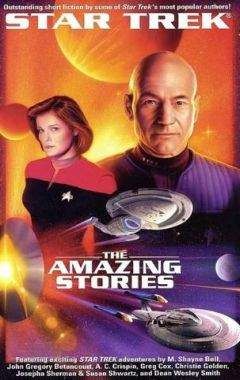Карина Демина - Голодная бездна. Дети Крылатого Змея
– Ну и пакет порвался, значится… я гляжу, что рука из воды торчит. Белая… вот…
– Ага.
– Тут и вперлось, что надобно полицию звать.
– Ага…
– Мы и сбегали скоренько к телефону… там, правда, дядька слухать не хотел, – пожаловался пацаненок, шмыгнув носом. – Уши ободрать грозился.
– Не обдерет, – пообещал Мэйнфорд. – Что ж… спасибо за гражданскую сознательность.
Пацан важно кивнул, а его приятель расплылся в счастливой улыбке. Ну хоть кому-то хорошо. Честно говоря, пацанам этим, для которых найденный на берегу труп был всего-навсего приключением, Мэйнфорд завидовал.
– Видеть вы ничего не видели?
– Так чего тут увидишь? – удивился старший. – Дорога-то старая, только третий маршрут и ходит, который до новой пристани.
– Ага… и еще на завод, когда ездют, – поддержал его младший, который ерзал от нетерпения. – Но они редко… вчера вот никого не было.
– А ты знаешь?
– Знаю! Меня мамка в комнате заперла, чтоб учился…
– А ты не учился? – Мэйнфорд присел и глянул пацану в глаза. Серые. Ясные. И врать еще не то чтобы не умеет, скорее уж не видит смысла врать в данном конкретном случае.
– Не-а… тоска… я в окно глядел… тож тоска. Дождь был. И дорогу видать… когда кто едет, то фары палит. А тут никого за целый вечер.
Тело могли сбросить и выше по течению.
Здесь, как Мэйнфорд прикинул, от дороги далековато. Берег, хоть и пологий, но вязкий, машина в таком сядет и без тягача не вытащишь. А если бы вытаскивали, остались бы следы. Оставлять на дороге? И волочь тело к воде? Далековато выйдет. Неудобно. Да и район, пусть и не из приближенных к Первому кругу, но и не из тех, где никому нет дела до дел ближних своих. Скорее уж наоборот, в таких вот местах все знают обо всех. И появление незнакомца – само по себе событие.
– Если вдруг вспомните что-то, то звоните. – Мэйнфорд вытащил из кармана визитку, которая, на счастье, оказалась не слишком мятой. – Вот. Только скажите, что вы по делу утопленницы.
– Так она не сама утопла, – резонно возразил старший.
Умные ныне дети пошли.
Не сама.
Да и не утопла. Их всех находили в реке, в разных местах, в разное время. В разном же состоянии. Но ни одна из них не утонула. И подходя к телу, распростертому на черном брезенте, Мэйнфорд уже знал, что увидит.
Сахарную блондинку, погасшего светлячка. Сейчас в ней не осталось ничего красивого, напротив, бесстыдная эта нагота, синюшность тела, покрытого узором черных порезов, была уродлива. И Мэйнфорд заставлял себя смотреть.
Подмечал детали.
Нынешняя жертва в воде пробыла недолго. И повезло, что осень, и вода холодная, поэтому тело если и тронуто разложением, то самую малость. Кожа набрякла, но еще не поползла гнилою тряпкой. Лицо… типично.
Правильный овал.
Аккуратный нос. Четко очерченный рот. Глаза закрыты, но гадать нечего – голубые. Он, кем бы он ни был, предпочитал голубоглазых блондинок.
Натуральных.
Ухоженных. И здесь не изменил привычке. Волосы, растрепанные, спутанные, но хотя бы не покрытые слоем трупного воска и водорослями, вились. В жизни она носила прическу волной, тщательно следя, чтобы ни одна прядь не нарушала искусственного совершенства этой волны. И брови выщипывала так, чтобы оставались тонкие нити, которые подкрашивала косметическим карандашом.
Наклеивала ресницы…
И ногти.
Мэйнфорд склонился и, преодолев минутное отвращение – вот не любил он утопленников, было в них что-то подлое, вроде стремления спрятать под водой истинный след, – взял девушку за руку.
Ногти ей обрезали.
И покрыли темно-красным лаком. Причем покрыли аккуратно, профессионально почти. Совершенствуется, зар-р-раза…
Кохэн молча подал пинцет. И рот покойнице помог раскрыть. И вздохнул, когда из горла женщины появилась вялая лилия. Мятая. Размокшая. Уродливая. На ней насчитают с полусотни лилий, вырезанных ножом. И Мэйнфорд знал, что прочтет в заключении: резали их на живой еще жертве.
…они все жили подолгу.
Два дня.
Три дня… самая выносливая, судя по степени заживления старых ран, продержалась около пяти. Сколько мучилась эта?
– В этом нет твоей вины, – Кохэн разглядывал тело.
Что видел?
Ничего.
Если бы хоть что-то, хоть мелочь какую-то… Кохэн знает, насколько важны мелочи.
– А чья?
– Города. И того психа, который их режет…
…он начинает с ног. Аккуратные, неглубокие раны, которые сильно кровоточат и причиняют боль. Он не позволяет жертвам умереть от потери крови.
И заботливо смазывает раны заживляющим бальзамом.
Он выжигает лилии на коленях.
И разрисовывает спину узором из цветов. Он аккуратен и методичен. И наверняка получает немалое удовольствие от процесса. И он никогда не трогает лицо.
Почему?
Этот вопрос мучил Мэйнфорда давно. Он обращался к душеведам, но те готовы были говорит с Мэйнфордом о нем самом, но отнюдь не об убийце…
…он заканчивал всегда одинаково: вспарывал жертве живот, удалял матку и яичники, а внутрь клал камень. И это тоже что-то значило.
Кто бы сказал, что именно.
– Пусть пакуют. И… Кохэн… скажи, чтобы взглянула. Можно, завтра. Когда она обсохнет. Вдруг да повезет…
…единственная надежда. Только какая-то безнадежная.
Глава 15
Единственной лампы было недостаточно, чтобы осветить просторную гостиную. И вишневые обои в полумраке казались черными, как и ковер, тем разительней выделялись белизной резные креслица, совершенно неподходящие ни к этой комнате, ни к ее хозяину. Впрочем, данный факт нисколько не мешал мистеру Найджелу устроиться со всеми удобствами. Он откинулся, вытянув ноги, возложил их на деревянную скамеечку, а под голову сунул подушку.
И вид имел расслабленный.
Несерьезный.
– Свирель, говоришь, – он все еще пил, при том не пьянея, и было ли это результатом многолетних тренировок, либо же естественным свойством организма, Тельма не знала. – Не думал, что ты запомнила…
– Я и не помнила, пока… не услышала вновь.
Она пыталась понять, что именно стоит рассказывать и стоит ли вообще.
– Интересно… очень интересно… а свирель… по случаю досталась. Я одно время гонялся за всякими редкостями… идолы масеуалле… у меня даже есть камень из алтаря, который, если верить продавцу, стоял в главном храме… правда, продавцам всегда стоит верить с оглядкой… а есть булыжники мостовой Старого Света. Хочешь посмотреть?
– Хочу.
Историю Тельма не то чтобы не любила, просто история, которую давали в приюте, оставалась чем-то в высшей степени абстрактным. Даты. Имена.
События.
А тут булыжники мостовой.
– Посмотришь. – Мистер Найтли кивнул, не то Тельме, не то собственным мыслям. – Камень как камень. Может, и вправду обыкновенный, не из Старого Света, а из какой-нибудь местной деревушки…
Он хохотнул и вновь закашлялся, но на сей раз приступ не длился долго. И откашлявшись, мистер Найтли мазнул ладонью по губам, посмотрел на руку, нахмурился.
– А она все ближе и ближе… и никуда-то от нее не деться. Ладно, деточка… свирель… вот уж, и вправду, диковинка. На Рыбачьем рынке купил. Нравилось мне бродить по рядам, искать что-нибудь этакое… порой находил. Большею частью, конечно, барахло, но… не в нем дело. В людях. В рассказах. Ох, какие истории я слышал! Каждая вторая на сцену просилась… пускал. Будь добра, сходи в библиотеку. – Он смежил веки. – Третий стеллаж. Вторая полка. Книга в красном переплете. И не спеши… мне уже некуда. А тебе пока незачем. Помнишь, как пройти?
– Да.
Спуститься на этаж.
Темный коридор. Скудное освещение. И вновь снимки, на которые Тельма старательно не смотрит. И еще более старательно гонит из головы мысли о том, что дело, оказывается, не только в ребенке, который мог бы появиться на свет, если бы мама…
…в деньгах.
…и в страхе, что кто-то узнает о долгах.
В библиотеке, как сие и положено, царили тишина и полумрак. Здесь шторы не задергивали, и в комнату проникал свет с улицы. Яично-желтый, густой, он разливался по паркету и коврам неровными лужицами. Выплескивался на полки. Подсвечивал корешки старых книг.
Когда-то Тельме нравилось здесь бывать.
Надо же, а она и забыла… в приюте ей казалось, что она из дому-то не выходила, а если и выходила, то исключительно для прогулок в парке. А все ведь иначе было. И когда-то она частенько оставалась у мистера Найтли. Он отводил Тельму в библиотеку. Мистер Найтли придвигал вплотную к столу кресло, на кресло кидал пару внушительных томов «Истории Нового Света», к которой он относился с изрядным скептицизмом. На тома – подушечку. А уж на подушку усаживал Тельму. Вручал ей листы бумаги и карандаши.
– Веди себя тихо, – говорил он. – Не мешай работать.
Сам же устраивался в дальнем углу, на софе, где и проводил часы, сгорбясь, уставившись невидящим взглядом в очередную стопку исчерканных листов.