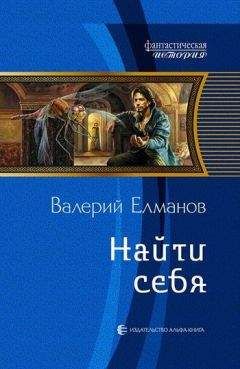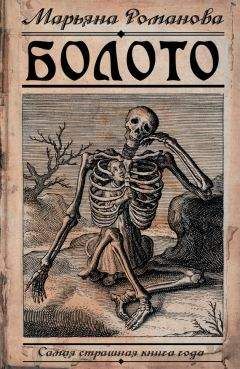Найти себя - Елманов Валерий Иванович
– Погоди-погоди, – остановил меня Борис Федорович. – Енто как же не знают? Что ни указ о помиловании татей, так завсегда под ним не токмо моя рука, но и Феденьки. Да и под другими, где кого-то жалуют, тоже его имечко упомянуто, а ты сказываешь…
– Я к тому говорю, что из палат он выезжает редко, – поправился я.
– Завсегда с собой беру, когда к Троице молиться едем, – вновь не согласился царь. – И там, в монастыре, он и милостыньку нищим раздает, и калачами одаривает и прочим.
– Монахи и нищие – это лишь малая часть народа! – жестко отрезал я. – Да и далеко они, случись что. А на татей полагаться и вовсе глупо – не те людишки, чтоб добро помнить. Встречаются, конечно, и среди них… – поправился я, вспомнив Игнашку Косого, – но редко. А надо, чтоб его вся Москва знала и… любила. Чтоб, когда он ехал по улицам впереди своего полка – нарядный, юный, красивый, гордый, всем улыбаясь и кивая, люд московский плакал от умиления, солнышком своим ясным называл.
Годунов слушал, прикрыв глаза, а на губах играла умиленная улыбка. Видя это, я вообще залился соловьем, на ходу изобретая радостные возгласы и крики, которыми якобы будет приветствовать Федора Борисовича народ.
– А куда это ты его со своим полком отправить собрался? – вдруг встрепенулся царь.
– Как куда? – удивился я. – Где ратники, туда и их воевода – на учения. Они ж совсем юные, им всему учиться надо – и как строй держать, и как в цель стрелять, и как команды в бою выполнять. А чьи команды? Вестимо чьи – воеводы своего.
– И ты что же? – сразу насупился Годунов. – Его одного из моих палат невесть куда? Нешто так можно?
– Не можно – нужно, – жестко поправил я его. – То, что царевич рядом с тобой в Думе сидит, – это одно. Только, насколько мне ведомо, все равно там все решения принимаешь ты и никто другой. А где ему учиться командовать?
– Дак у меня, – пожал плечами царь. – Потому и беру с собой, чтоб приучался к государевым делам.
– Знаешь, расскажу я тебе одну притчу. – Это мне припомнился дядя Костя и его были, которые он излагал Ивану Грозному. – Жил-был на свете человек. И очень он любил своего сына. А жили они на острове, поэтому за едой и прочим человек этот плавал на лодке. Но в жизни бывает всякое, поэтому иногда ему приходилось переправляться через реку вплавь. И решил он обучить плавать своего сына, а то мало ли. Усадит его на берегу и говорит: «Смотри, как я плаваю, и учись». Тот смотрел, смотрел, а как отца не стало, решил сам попробовать. Плюхнулся в реку, ан чувствует – на дно идет. Он и руками, и ногами, как отец показывал, да все равно не получается. Побултыхался-побултыхался и…
– И что? – даже чуть подался навстречу мне Годунов.
Я внимательно посмотрел на его лицо и изменил первоначальную концовку.
– Кое-как научился, – неохотно проворчал я. – Однако выбрался на берег еле-еле, да и воды наглотался изрядно.
– Но выплыл, – умиротворенно протянул царь.
– Выплыл, потому что река была неглубока и тиха, да и течение в ней несильное, – язвительно заметил я. – Повезло парню. А встретилась бы ему крутая волна, и пиши пропало.
– На Руси тихо ныне, – прошептал Годунов и с упреком посмотрел на меня. Мол, чего ты тут на болезного человека страсти нагоняешь? Не видишь, что ли – и без того еле жив.
Здрасьте пожалуйста! Это я же еще и виноват!
Ох как захотелось рассказать ему, что его Федор уже через год с небольшим окажется в гробу. Вот только после моего рассказа, чего доброго, придется сразу еще одну домовину готовить – для папы.
Но я настырный – это не в дядьку, у нас вся семья такая, – так что сумел-таки соблазнить Бориса Федоровича. В основу уговоров я положил преданность будущего полка царевичу – наиболее заманчивую конфетку для государя. Ею преимущественно и манил.
Через три дня он со вздохом дал мне свое царское «добро» на формирование.
По глазам было видно – с идеей отпускать куда-то за пределы средневекового МКАД, то бишь из кремлевских ворот, свою обожаемую, ненаглядную кровиночку Борис Федорович так до конца и не смирился. Но ведь, по моим словам, до этого было еще очень и очень далеко – вначале надо сформировать полк, набрать личный состав, как следует погонять его, преподав первые необходимые азы, а уж потом…
Но он зря полагал, что это займет не меньше года. Я, разумеется, не разубеждал царя в этом заблуждении, но сделал все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее прокрутить все организационные заморочки, тем более особого труда это не составило.
Бюрократизм среди канцелярских крыс того времени был уже изрядный и кое в чем мог вполне составить конкуренцию тому, который устроили господа демократы в современной мне России, но спасало два обстоятельства.
Во-первых, сам Стрелецкий приказ был создан не так давно, всего три года назад, и канцелярские крысы, работающие в нем, еще не нашустрились относительно всевозможных проволочек и затяжек. Когда же какой-нибудь не в меру шустрый подьячий чего-то там дергался, вступало в силу «во-вторых»: ведь полк создавался специально под царевича Федора, а с царской властью спорить все равно что против ветра… Ну вы меня понимаете.
А если кто из них забывал об особом статусе полка, тому я сразу об этом напоминал в вежливой недвусмысленной форме:
«Ах, эта бумага будет готова только через седмицу? Странно, неужели ее так долго писать? Ну ладно, сообщу царевичу, что подьячий… как там тебя по батюшке, яхонтовый ты наш?.. отказывается состряпать ее ранее. Ах, не надо сообщать? Нет, милый, извини, не выйдет. Если я ему о том не поведаю, то виноват в эдакой задержке окажусь сам, а мне этого не хочется. Да и не больно-то мне жаждется класть свою голову на плаху – чем я тогда есть стану? И вообще, твоя под топором смотреться будет куда красивее. Правда, бороденка в кровушке запачкается, но ты не печалься – родные отмоют, прежде чем в домовину класть».
Впрочем, такое было лишь пару раз. В остальных случаях с моей стороны следовало лишь многозначительное напоминание, что царевич Федор будет крайне недоволен случившейся заминкой и, возможно, попросит батюшку принять соответствующие меры и прислать на это место человечка порасторопнее.
Хватало вполне.
С набором проблем особых тоже не возникало, поскольку я повелел брать всех кандидатов без разбора – имеется в виду, что никаких сословных ограничений быть не должно. Более того, льгот никто не имел, то есть сын видного боярина должен был стоять в строю бок о бок с сыном какого-нибудь кузнеца, сапожника или купца.
Про сыновей крестьян царь тоже немного поупирался, заявив, что и без того в последнее время с податями сплошная беда, но тут я привел ему некоторые плюсы, которые имели деревенские жители в отличие от городских. Например, они гораздо меньше боятся смерти, поскольку мало знакомы с радостями в жизни.
– Да и пойдут они в полк куда охотнее, – добавил я. – Это же серебро. Он и своим, кто в деревне остался, поможет.
– Живя в деревне, ума не скопишь, – назидательно заметил мне Борис Федорович. – Яко обучать их станешь, коль они ошуюю от одесной [113] отличить не возмогут?
– Возмогут, государь, – твердо заверил я его, прибегнув для вескости к примерам из древности, учитывая, что Годунов к ним относился с чрезвычайным пиететом. – Некий римский ритор Квинтилиан, который, кстати, тоже, как и я, был учителем детей-наследников одного из императоров, заявлял, что тупые и неспособные к учению умы – вещь столь же противоестественная, как чудовищные телесные уродства. И еще он сказал, что и то и другое встречается весьма редко, а подавляющее большинство как раз, напротив, в детстве подает добрые надежды. И если все это с возрастом угасает, то повинна в этом не природа, а воспитание.
– Ну уж, – вяло возразил он – сказался авторитет неведомого Квинтилиана, но я, почуяв слабину, тут же навалился с другого боку и с помощью другого римлянина дожал его окончательно.